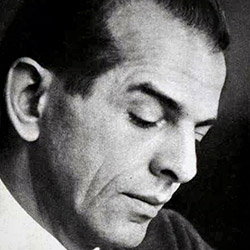Избранные рассказы
Превосходнейшая забава фараона
Когда шёл я к солнцу – хоть и оказалось, что я двигался всего лишь в небытие – мне выпало потрясающее развлечение, какое только непокорные слуги и жрецы могли закатить усопшему властелину. Смех мой слышали все океаны мира, не один лишь священный Нил. Ибо в тот миг, как ваш господин, владыка вечный, хоть и вполне смертный, милостиво соизволил навеки закрыть глаза, вы взялись за титаническую работу – постройку гигантского сооружения, самого большого храма ложного бога Амона. Вы стали уничтожать моё имя. Замазывать его на свитках папируса. Вырезать из лент саркофагов. Соскабливать с металла. Сбивать наскальные письмена. Соскребать со стен и толочь мозаику с моим изображением. Вытравливать из памяти потомков. Чтобы я, как слепец без рода, без племени, вечно скитался, тщетно пытаясь узнать своё имя, понять, кто я такой и способен ли на человеколюбие.
Глупцы! Я заранее знал, сколь тщетна ваша борьба с тенью фараона Эхнатона! Мой смех разносился все дальше и дальше: он звучал над разливами вод и грядами гор. Ведь вы строили мне один из самых грандиозных памятников – памятник т а й н е.
При жизни я открыл людям, что на самом деле представляет собой ваш ловец душ, поставщик власти и богатств – ваш Амон, жалкое пугало из имени и тлена! Я надругался над ним? Ложь! Я был опасен, потому что из моих слов исходила простота и искренность.
Тогда вы решили отобрать у людей не только мои слова, но и погасить сияние моего имени. Наверное, я превратился бы в простую крупицу истории, если бы не ваши бесплодные и примитивные старания. Вы хотели вылущить меня из времени. Вырвать из рода фараонов и бросить на свалку забвения.
Надо признать, поначалу вам удалось отобрать меня у людей. Однако, обладая живым умом и недюжинными способностями прорицать грядущее, я с первой же минуты веселился, как никогда прежде. Я знал: придёт время и странный пробел в хрониках породит неистовость исследователей. Она будет столь велика, что стараниями не только историков, теологов и философов, но даже авторов разнородных романов, я уже в ХХ веке стану одним из самых знаменитых фараонов всех династий, хотя своей короткой жизнью, человека немощного и наивного, этого вовсе не заслужил.
Так что, глупцы и слепцы, благодарствую вам, безнадежно канувшим во тьму времени!
Фараон благодарит вас за превосходнейшую из своих забав.
Тост
Я провозглашаю этот тост с твёрдостью духа и доброй верой, что вопреки решению судей, я не оскорбил ни богов наших предков, ни божеств нашего времени. Потому что и божества, и боги суть лишь убогое свидетельство фантазий и вымысла простого люда, а также жалкая иллюстрация человеческого страха, иной раз – надежды. Ужели я мог унизить богов, неужто возможно оскорбить миф?
Я наполняю этот бокал с искренней надеждой и убежденностью, что очевидная бессмыслица вынесенного мне приговора, если и не пробудит совесть подавляющего большинства, то хотя бы послужит предостережением здравомыслящим. Неужели среди них не найдётся достаточного числа легковерных, полагающих, что их разумные доводы воспринимаются разумно? И неужели у меня нет права тешить себя надеждой, что моему другу Платону, возьмись он писать обо мне, удастся приблизиться к столь ценной для меня простоте изложения?
И наконец:
Я, Сократ Афинский, поднимаю этот бокал цикуты с подлинною любовью к приближающейся ко мне нирване. Уходить следует смиренно. Неужто Сократ лишён права верить, что мир иной, где я окажусь, избавит меня от очередного десятка тысяч диспутов с недоумками, которые, слушая мои речи, не слышат сути, а называя меня мудрецом, думают обо мне, как об опасном глупце?
Так вот, Сократ Афинский прощается с вами в расцвете сил, с величайшим облегчением и искренним удовольствием.

Опровержение
Значит так. Это ложь, будто я рвался к какой-то небывалой славе. Зато чистая правда, что я был преждевременно состарившимся, тщедушным, отягощенным многочисленным семейством и задолжавшим всем на свете, одним из худших портных-портачей Эфеса.
Я задолжал родне, близким друзьям, дальним знакомым и казначеям небольшого храма Иштар в южной части города. Они жили довольно скромным ростовщичеством, давали в рост на большой срок, проценты тоже были невелики. Но, что хуже всего, они присылали ко мне храмовых женщин. Я блудил с ними, а те, в основном сирийки, творили такие чудеса, на которые не способны даже самые дорогие шлюхи Эфеса.
Ничего-то я, глупец, не понимал, пока не пришел час платить долги. Богиня Иштар, устами своих жрецов, а моих кредиторов, провозгласила, что, если я сожгу их соперника – храм Девы Артемиды, то меня и моё семейство ожидает жизнь долгая и счастливая. Так что я, Герострат, халтурщик и бедолага, должен был пустить на ветер одно из восьми величайших чудес света.
Ростовщики богини Иштар знали, что делали, когда прощали мне долги, сулили обеспечить мою семью и, вдобавок, пожаловали мешок смолы, горящей ярким и жарким пламенем.
Однако, я ещё не сказал, что меня схватят. Поначалу я молчал. Но на второй день жрецы Артемиды зашили меня, портного, в свежесодранную шкуру старой лани, а та стала быстро высыхать на моём тощем теле. Тогда я рассказал всё. Меня удавили тетивой лука Девы Охотницы, быстро и даже не слишком болезненно. Это было чудесным избавлением от мук плоти и души.
Служители Артемиды не стремились к открытому раздору с жрецами Иштар. Вся вина, позор и слава пали на Герострата.
Что правда, то правда – я прославился. Но вопреки моей воле и за непомерно ничтожную плату.
Модель случайных событий
Проигравшись в кости в пух и прах, устав от интриг друзей, пресытившись любовью двух прекрасных женщин и одного отрока, я покинул Александрию. Это значит, что я бросил дом, учеников, развлечения и даже единственное чудо на свете, которое по-настоящему любил, – мою библиотеку!
Я побрёл к месту уединения отшельников, чтобы насладиться одиночеством, то есть, полной беззаботностью. Но, увы, меня погубила лень. Вместо того, чтобы воистину отречься от мирских забот и вкусить подлинное уединение, я прибился к другим пустынножителям, сочтя их поселение средоточием святости.
Поначалу благочестивая братия приняла меня не слишком охотно. И только когда посылаемый Создателем ворон начал приносить ячменные лепешки и мне тоже, они стали называть меня «возлюбленным братом». Все было бы чудом и наслаждением скукой бытия, если бы я снова не пал жертвой своего легкомыслия и дурных привычек. А прежде всего – своего таланта. В мешке отшельника я нашёл неполный комплект игральных костей. Я бросил раз, второй, сотый, стотысячный. Когда я играл сам с собой с рассвета до ночи и даже при лунном свете, сам против себя, со ставкой против ставки, мне пришла в голову любопытная идея. Я дал ей рабочее название «Теория вероятностей».
Повторяю: меня погубил талант.
Так вот, по мере продвижения моей работы над теорией, над моделью случайных событий, ворон стал навещать лишь меня одного, притом, не только всё чаще, но и с более изысканным угощением. В конце концов, Создатель, наверняка заинтересовавшийся остротой моего мышления, решил меня вознаградить. Но на сей раз Ему отказала божественная интуиция. Ибо, когда накануне завершения моей теории, Он прислал мне для подкрепления таланта паштет из скворцов, мурены в золотом соусе, шейку ягненка с шиповником, а также кувшин юлианского фалерна, этого мои благочестивые братья стерпеть уже не смогли и криком «Изыди!», забили меня своими деревянными башмаками, как хворую курицу.
А жаль. Мою теорию и доказательства только в конце XVII века частично описал в своей «Предельной теореме» Якоб Бернулли. Сделал он это скучно и без полёта фантазии.
Жаль.
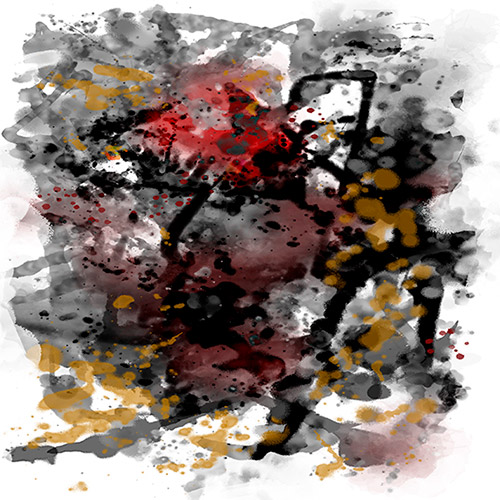
Кости
Мне, Бартоломео, прозванному Трудолюбивым, ученому и неутомимому монаху из Вюрцбурга, за семь дней до смерти была дарована великая милость и превеликая радость.
А именно: годами выспрашивая у возвращавшихся из ориентальных стран купцов, миссионеров и посольских служак, собирая вести о природе огненных пуль, стрел и метательных снарядов, которые использовали монголы, татары и китаи, я разгадал секрет их изобретений. Более того! По моим расчетам, а признаюсь, скорее по воле случая, чем ума, я изобрёл взрывчатую смесь в семь раз мощнее, чем применяли на восточных окраинах мира.
Целую неделю удачи я экспериментировал и получал подтверждение того, что я вхожу в историю широко раскрытыми вратами.
В последний день я закатил пир, достойный княжеского стола с королевской сервировкой. Я ел и обжирался, пил и надирался, славя мощь своего таланта, а у моих ног лежал ласковый, спокойный, добрый мой пёс Уголино и обгрызал говяжьи, телячьи и бараньи кости.
Забрезжил рассвет. В его полумраке беспробудное пьянство довело мой помутившийся рассудок до бреда. Я увидел в обглоданных костях моего пса нескончаемое шествие человеческих костей: голени и бёдра, солдатские плечи и предплечья, черепа философов и прекрасных дам, согбенные и хрупкие скелеты старцев, детей и юных дев. Я представил, как они, благодаря моему гениальному изобретению, бредут бесчисленной толпой к рассыпающимся в прах гробам и могильной глине.
Mea culpa! Maxima! *
Я прозрел. В одно мгновение своей замутнённой и замороченной головой я понял, что мне отпущено совсем мало времени, прежде чем я протрезвею. Тогда мой острый ум прояснится, и я успею спасти своё изобретение, блестящую карьеру, будущие заказы, сулимые со всех сторон, и ласкающее слух бренчание золотом наград. Но пока в моей голове всё ещё кружил дурман, а в душе – тошнотворный страх. Я очень торопился. Очень упорно, хоть и неуклюже, спешил.
Четырежды я привязывал веревку к балке, пока не убедился, что она выдержит жирную тушу брата Бартоломео, прозванного Трудолюбивым. Шесть раз я сваливался с дубового табурета, пока, наконец, во славу человеческой глупости, петля веревки с палаческой силой не впилась мне в горло. А я в своей ублажающей сердце муке ещё успел увидеть первый луч солнца и услышать вой моего доброго пса, который, не понимая, что со мной происходит, тотчас понял, что со мной случилось.
___
* Моя вина! Моя великая вина!
Свидетельство высочайшего признания
Прошло три года, восемь месяцев и четырнадцать дней различных проб, испытаний и опытов, прежде чем я наконец осмелился пригласить к себе семерых наиболее почитаемых мастеров цеха во главе с моим незабвенным благодетелем, воспитателем и учителем – братом Бартоломео, прозванным Трудолюбивым.
Жену я отослал к матери, чтобы своей болтовнёй и красотой никого и ничем не отвлекала: ни мудрых старцев, ни меня – самого молодого из мастеров цеха. Так сели мы ввосьмером за стол с мясными закусками и полными эля кувшинами. А я ждал, когда семеро Великих и Мудрых обсудят и по достоинству о ц е н я т модель нового ткацкого станка, мною разработанного и изготовленного. Они обсуждали и оценивали его чрезвычайно внимательно, до мельчайших деталей, и я не обманулся в их глубоком знании предмета.
Много раньше, чем я мог ожидать, мастера засвидетельствовали мне высочайшее признание: они пришли к единому мнению, что невероятная эффективность работы и производительность станка может настолько облегчить, усовершенствовать сам процесс и увеличить объём производства, что рухнут не только монополия и уровень цен, но и иерархия мастеров, необходимость в подмастерьях, вообще развалится вся структура цехов.
Поначалу они выпили за меня. А как же иначе! Сначала со слезами на глазах подняли тост за спасение моей молодой души. Потом четверо гостей разбили мой станок так, что от него остались только щепки, стружки и осколки. А остальные, кто посильнее и попроворнее, чтобы избежать излишних обсуждений, споров и стонов, задушили меня, богато украшенным поясом самого мастера Грофиуса. Задушили почти безболезненно.

Пан Лешчиньский
Я, Казимеж Лешчиньский, шляхтич благородного рода и владелец небольшого, но крепкого состояния, начал искать Бога, Его Природу и Промысел с того момента, когда во мне пробудилось мыслящее существо. Я начал изучать суть божественного присутствия как в полёте облаков, так и в грозном потоке вздувшихся рек, и в молодой зелени озими. А прежде и превыше всего – в человеческом слове. Искал я под солнцем и в звёздном сумраке – искал долгие годы, с великой надеждой и упорством, искал в писании, книгах, в заповедях и проповедях, во всяких человеческих проявлениях – в доброте, слабостях и грехах. А теперь, да простит мне моя судьба, а люди посочувствуют. Ибо из года в год моя надежда иссякала, и на склоне лет, будучи уже человеком больным, уставшим от жизни, я решился сказать людям правду. Ту правду, в которой сам до конца не был уверен, но как человек честный перед самим собой, решился её оставить людям. Я записал свои мысли о небытии Бога. И тогда те, для кого провидение представляло высшую ценность, а Сын Божий был не человеком, но Сыном Бога, приговорили меня к жестокой, мучительной казни. Её описание я передаю вам по записям Его святейшества благочестивого епископа Анджея Хризостома Залуского, помещённым в Epistolae historico-familiares. Привожу очень важный фрагмент оных записей: «и вывели его на лобное место и сперва надругались над языком его и устами, коими злобно хулил Бога. Затем сожгли его десницу, орудие мерзейшего плода, далее – богохульственные бумаги, и под конец его самого, изверга рода человеческого, богоубийцу, сожрало искупительное пламя, но разве можно огнем вымолить у Бога искупление.
Таков был конец преступника, они надеялись, и преступления! Преступления, которое, как поговаривали люди, должно было укорениться не в одном уме, и несомненно дало бы буйные всходы, если бы такая публичная казнь, как зима, не побила морозом поросль».
Так было. Так сталось.
Я отошёл в страшных страданиях, крича вырванным языком: «Боже, Боже, почему ты оставил этих людей?», пока, наконец, не ступил в нирвану, полную покоя и благодати. Ведь на том свете, в небытии, я не углядел ни врат рая, ни просторов чистилища - а бездна ада осталась далеко позади, среди людей.
Слава
В один прекрасный день на рассвете я пристроился на ступеньках небольшого храма. Прислонился к холодной стене, вытянул перед собой босые ноги, чтобы, как обычно каждый день, в тишине и покое подумать о своей эфемерной, весьма ленивой и безмятежной жизни.
Я, Такео, потомок князя Хидэёси, не пытался вернуть себе остатки утраченных владений. Мне совсем не хотелось нажить хоть какое-то состояние. Даже завести жену и детей. Я, Такео, последний потомок генерала Хидэёси, реставратора объединённой империи в новой истории, в своей долгой жизни был привязан к одной единственной вещи: к выдолбленной из серебряной сосны миске просителя милостыни. Именно она привела меня в тот день на то место.
Мисочка быстро наполнилась, я поел, ненадолго вздремнул. Когда я открыл глаза, то посмотрел на небо. Улыбнулся: где ещё найдёшь такую чистую прозрачность небес?
Тут как раз подлетал самолёт, сверкающий в этой прозрачной голубизне, как голодная стрекоза над прудом. Я усмехнулся.
Ни в коей мере я не мог себе представить, что через несколько мгновений, благодаря этой «стрекозе», я приобрету славу, несравнимо более долговечную, чем любой из моих предков: шогунов, генералов и вождей. Ибо с того момента я получил имя, известное всему цивилизованному миру.
А именно: «Белая Тень Человека Хиросимы».
Перевела с польского Регина Ковенацкая