Межа
Из цикла «Русские женщины»
Как хрупкий стебелёк цветка мать-и-мачехи
весной пробивает корку асфальта,
так и моя память сквозь толщу лет
возвращает меня к людям, любовь к которым
не знает края.
Памятуя о том, что «учителка» Вера Гавриловна вывела в люди его сына (в райцентре начальником почты пребывает), каждую весну Колюня, по прозвищу Пузанок, пашет Вере Гавриловне огород, помогает управиться с картохой, без магарыча, из уважения.
Приняв «дары» от тётки Степаниды за исправно проделанную работу, Колюня малёхо не подрассчитал и распахал межу между огородами Веры Гавриловны и Донюшки.
Донюшка, маленького росточка щупленькая бабёнка немногим за пятьдесят, недавно схоронившая мужа, такого же недомерка, выпивоху-бабника, на редкость тихая – деревенское прозвище у неё было Немая, – ну что тебе бабочка, приточённая булавками к оконному косяку, стала поправлять порушенное, опять же, из уважения.
Да разве только Пузанок и Донюшка, все деревенские расступались в сельмаге, пропуская Веру Гавриловну к прилавку первой, – та, хоть давно на пенсии, была не из города присланной, а здешняя, солотинская.
Увидев из окна Донюшку, ловко орудующую лопатой, Вера Гавриловна всполошилась. Если бы, спросивши Веру Гавриловну, Донюшка оттяпала половину огорода, её бы это не всколыхнуло. Долгие годы работы в школе уверили Веру Гавриловну, что всё делать нужно с её ведома и только с её разрешения, а тут без спросу, и она пришла в ярость. Впервые на люди выскочила неприбранной. Подбежав, уняв отдышку, отчеканила каждое слово:
– Тебя кто просил?
Донюшка, запинаясь, стала оправдывать Пузанка, дескать, пагубу совершил без умыслу.
– Тебя кто просил?
– Никто, – потупив взгляд, тихо отвечала Донюшка.
– Так зачем?
– Ну вот…
Вера Гавриловна понимала, что у Донюшки такое же право, будь она неладной, на эту межу, но остановить себя уже не могла. Она, будто коршун, накинулась на несчастного курчонка и давай изводить этим глупым вопросом «тебя кто просил?». Донюшка стояла смирнёхонько провинившимся учеником, чуть шевеля губами, обозначая только одно:
– Никто, я дума… – и тут же умолкала.
Всему бывает конец, пересилив себя, боясь вспугнуть нахлынувшее, вдруг сказала:
– Злая ты, Вера, от того в вековухах пребываешь.
Вера Гавриловна, услышав, что к ней на «ты» и не по отчеству, от гнева покрылась пятнами. Сделав паузу, дала волю низменному:
– Ох, можно подумать. Уж чем с мужичонкой с херову душу жить, лучше вековухой оставаться.
Худенькое тельце Донюшки, в котором теплилась лампадкой добрая душа, иссушённое повседневными заботами, крещёное вожжами и успитками «мужичонкой с херову душу», вздрогнуло. Не проронившая за всю жизнь ни единого чёрного слова, страшась самой себя, затараторила:
– Да, да. С херову душу, а зато ёпкай.
Повисла тишина.
Вера Гавриловна, будто муха, попавшая в липкую паутину, замерла. Вся её злость перекочевала к ней, на её постылое одиночество, на не сложившуюся жизнь, и она заплакала покаянным плачем, так плачут на похоронах.
Донюшка от стыда и жалю запричитала:
– Прости меня дуру, прости.
Вера Гавриловна подошла, обняла Донюшку, всхлипывая:
– Подожди, я сейчас, только накину чего-нибудь и возьму лопату… я мигом, подожди.
Деревня есть деревня, весть о том, что Немая довела до слёз Веру Гавриловну, пронеслась из конца в конец быстрей самого резвого коня по кличке Атом, да только так никто и не поверил.
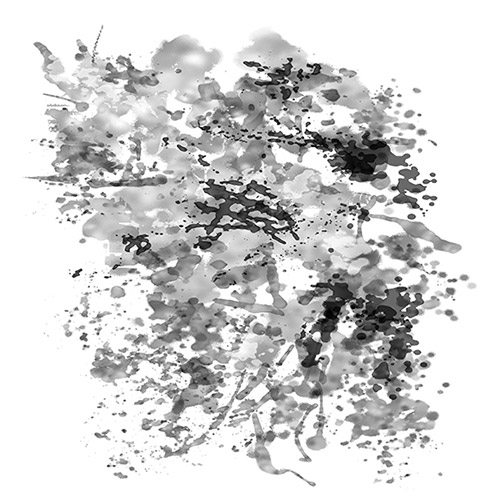
Обнажённая модель
И птичьи крики – будто волокут злодея по земле,
как будто по темнеющим долинам удаляется прозревшая душа…
М. Мартинайтис
Дед закончил подшивать валенцы, из большой цыганской иголки вытащил остаток дратвы, подозвал меня:
– Открывай рот.
Ловко накинул петельку на нижний молочный зуб, концы дратвы отдал мне.
– Дёргай, а то новый в рост кривым пойдёт, будешь, как Колюня Пузанок, кривозубым, не примут таким в школу.
Но родители забрали меня из деревни, где рос в крепких объятиях любви деда, бабушки и многочисленных маминых сестёр. В одночасье из деревенского стал дитём городской окраины. Не знаю, давно покинул те места, наверное, город на берегу могучей реки успел сильно перемениться, но в то время он все ещё оставался городом, в котором сто лет назад выставка передвижников потерпела сокрушительную неудачу.
Зина же лелеяла мечту, что я стану художником. В жизни мне больше не приходилось встречать человека, который бы так свято и наивно верил в силу красоты и в то, что творящий красивое есть подобие своего творения. Сказы, придуманные ею, зачаровывали, они белой голубкой в лазоревой небесной купели кружились над моими снами, когда её побаски я разузоривал детской фантазией и химическим карандашом, она сияла от восторга, отмывала мои синие губы, язык, любовалась нарисованным, раскладывала в специально сделанные папочки. Её верность мечте была подобна кремню.
Незадолго до моего отъезда в Ленинград к нам зашёл мой преподаватель Александр Григорьевич. Человеком он был весьма странным, странным было и то, что всегда его курс оказывался самым сильным в училище, за это ему прощали слабость, коей страдают многие талантливые люди. Пока мы с ним отбирали рисунки, которые я должен был представить в приёмную комиссию, Зина, извиняясь, дважды напоминала о том, что всё остынет. Наконец, поглядев на стол, в центре которого красовался «напиток», без которого якобы не будет успеха, Александр Григорьевич, потирая руки, то ли нам, то ли себе сказал:
– Ну да ладно, теперь уже можно.
И еле уловимая тень печали легла на его лицо. Подождав, пока он отобедает, пересилив волнение, Зина спросила:
– Александр Григорьевич, скажите, получится из него художник?
Он призадумался, но вспомнил, что от него ждут ответ. И, глядя в окно, как бы извиняясь:
– Знаете, Зина Петровна, я скажу откровенно, только вы не обижайтесь. Художник из него получится, да всю жизнь он будет голожопым.
Зина, готовая от радости взлететь, защебетала:
– Пусть, пусть будет голожо… – и испугалась, как ребёнок, разбивший что-то ценное, но потом радостно: – Ваши слова да Богу в уши! Пусть! Только бы стал, только бы стал художником.
Проводив гостя, сама села его на место, её лицо светилось от счастья.
Постучали – и сразу вошла. Это оказалась мама девочки, с которой я дружил. На ней был строгий костюм, на лацкане пиджака красовался вузовский ромбик. Увидев за столом Зину, пустую бутылку, разложенные мои рисунки, она, побагровев, процедила сквозь зубы:
– Ну и семейка… – и перешла на ор: – Чтобы никогда, слышите, никогда больше я не видела его у себя в доме! Я думала, это неправда, а он, оказывается, занимается тем, что рисует голых баб!
Тут вскинулась Зина, будто наседка, защищающая свой выводок:
– Он рисует обнажённую модель, а не голых баб!
– Грязь вычисти из-под ногтей, а потом будешь рассуждать про обнажённую модель, – прошипела дама в пиджаке и напоследок остатком зла одарила ни в чём не повинную дверь.
Третий курс. Народ гриппует. Мы целый семестр лепим, рисуем, делаем наброски с одной и той же обнажённой модели. Наконец от преподавателя слышим долгожданное: «Всё, заканчиваем». Натурщица встаёт, набрасывает халат и идёт одеваться, халатик короткий, только на одну треть прикрывает ягодицы. Сокурсник, рисующий рядом, восхищённо:
– Смотри, к а к а я б а б а!
– Ты чего? Мы же её столько лепили, рисовали обнажён… – и тут я вспоминаю Зину. Мне больно, я всегда стыдился её безграмотности, не понимая, сколь велика её мудрость. Мне больно, очень больно оттого, что так мало дарил ей нежности.
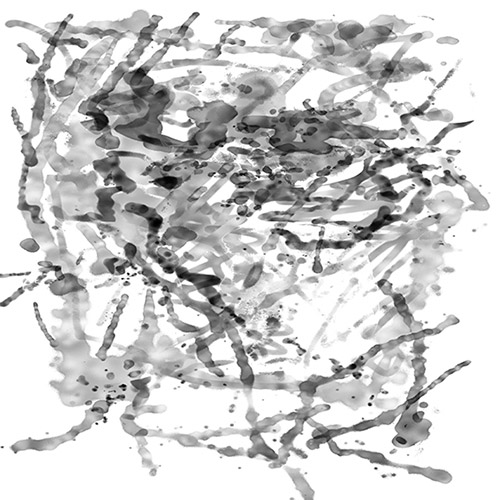
Урок чистописания.
Из цикла «Русские женщины»
Вряд ли Зина была знакома с трудами Сухомлинского и Макаренко, не говоря о докторе Споке, однако для меня она так навсегда и осталась добрейшей русской няней. Все мои детские капризы увещевала словом и только словом, без обещаний и лжи. Склоняю голову перед её терпением. Года три, может, и больше, каждый божий вечер засыпал под сказанную её удивительным голосом сказку «Жил-был пёс». Она и пела удивительно, её просили – стыдясь, отнекивалась.
– Какая из меня певица? – вздыхала и зачинала.
Порхаясь на кухне, всегда пела, я же тихонечко пробирался, прятался за «шкапик» и слушал. Углядев меня, сразу прекращала петь. Я тоже пытался петь, но она мне своим удивительным голосом:
– Ты поёшь очень хорошо, но долго.
Этим все мои попытки стать певцом оборвала, а вот рисование всячески поощряла. На последние деньги покупала карандаши, да не шесть цветов, а большую коробку, где был карандаш с белым грифелем. Радовалась каждому моему рисунку, а позже, когда учился, борясь со сном, замерев, часами позировала и всё рассказывала про самый красивый город Прагу, который ей довелось увидеть, возвращаясь из немецкого лагеря.
Так сталось, последний раз с Зиной свиделся на Троицу. Как и в детстве, увязался за ней нарвать чабреца, кленовых веточек – ими мы завсегда украшали двери, иконку, пол устилали чабрецом. Дорога была неблизкой, говорили-вспоминали. За годы учёбы, обкатанный, как дробина, столичной жизнью, со свойственной молодости бескомпромиссностью хлёстко отозвался о нашем русском разгильдяйстве.
– Вот осталась бы в Германии – и жизнь твоя сложилась бы по-иному, – ляпнул, не подумав.
Она резко оборвала меня:
– Упаси Господь, не дай Бог познать тебе такое.
Помолчав:
– А и то, твоя правда, там был порядок, даже где людей заживо жгли.
И вновь, помолчав, спокойно:
– Мне довелось видеть много разных людей. У нас, у русских, нет серёдочки, русские без краёв как в одну, так и в другую сторону. Ну уж если судьба будет благосклонна, поручкает с человеком светлым, ни одна хмарь не сможет укрыть солнышка. После немецкого лагеря мне пришлось и в нашем ещё побывать, услышать обидное «немецкая овчарочка» всего лишь за то, что освободили не свои да с передачей тянули долго, полных три месяца. Можно было злобой захлебнуться, да тут случай такой выпал. После лагеря мы с Василием Ивановичем (мужа она называла только так) квартировали у тёти Лены.
Призадумалась. И шёпотом:
– Это надо же, ни фамилии, ни отчества, тётя Лена – вот и всё… Ну так вот, жили мы у тёти Лены, Василий Иванович на оборонном работал, а там знаешь какие строгости? Сказывали, в войну запороли плавку, так начальник смены в ковш с раскалённым металлом прыгнул, сгорел сердешный, семью спасая. Случилась серьёзная неполадка, Василий Иванович с бригадой устранил, премию за это получил пять буханок белого хлеба. Одну мы – тёте Лене. Смотрим, не ест. И на другой день не ест. Нам неудобно пировать, спрашиваем: «Тётя Лена, что не так? Почему не едите?» – «Нет-нет, всё так, Зинушка, да, может, кто в гости придёт». Это в то время, когда и черняжечки вволю не ёдывали…
Я давно уже старше Зины, но духмяный запах чабреца, замешанный на мудрых её словах: «Когда судьба ручкает тебя со светлыми людьми, стыдно жить вполсилы и смокчать корочку под одеялом», в трудные минуты держит меня на плаву.
Нордик.
Азбука любви

Посвящаю В. И.
…и была мечта, чистая, словно родник,
беззащитная, как сиротство: надеть белую
рубаху, сесть на белый пароход и плыть,
плыть, плыть…
О большой собаке я мечтал с детства, и вот это произошло. В самое неподходящее время. Прилавки магазинов пусты, люди выбрасывают четвероногих на улицу, а я принёс щенка.
Взял его в руки и понял – мы обречены любить друг друга. К этому надо добавить: порода, характер. Повлиять человек может на характер, остальное дело природы, она наградила его огромным ростом, красотой и воистину не собачьим умом. Вместе со мной он пережил время, сотканное из событий, непригодных для нормальной человеческой жизни, оставаясь до конца преданным.
За плечами у меня были годы, я всё не мог состояться как художник, много работал, выставлялся, пытался сам продавать. Коммерсант из меня не задался, шло всё плохо – и, как следствие, скандалы в семье. Всякому приходит конец, пришёл конец терпению моей жены. После очередного противостояния услышал от человека, с которым связал свою жизнь, что прикрываюсь талантом, которого нет, оправдывая нежелание работать, как все нормальные люди. Это прозвучало будто констатация врача о моей смерти. Я ушёл...
Поселился в пригороде в маленьком каркасном домике-сарайке, много рисовал, зарабатывал случайной работой, все деньги уходили на корм собаке. Моё меню было на редкость простым – чай, и даже сейчас, когда могу купить дорогие кисти, холст, краски, основная еда моя по-прежнему чай. Тянулись дни, месяцы, годы, мою жизнь словно кто-то нарочито усложнял, и даже не жизнь, а мою веру, мою волю сжимала многомерная сила. Стала приходить мысль, что действительно обделён этим самым талантом и никакой я не художник. Я начал ненавидеть себя, своё упрямство – надо же, при всей нищете покупать дорогие корма. Но собака не виновата, да и разве мог подумать, что окажусь в такой провальной яме.
В тот день печку не топил, Норд сопровождал мой уход взглядом, не поднимая головы. Меня всегда поражало его чутьё, он безошибочно определял, возьму ли с собой или ему надлежит оставаться. Вернулся, ещё раз проверил содержимое карманов нищенского своего гардероба и, не найдя там случайно оставленного, с невесёлыми мыслями отправился к чреву ждущего, но не таких, как я, сверкающего бесстыдством цен супермаркета. Оттягивая время, потоптался на ступеньках и вошёл в тёплый тамбур. Руку обожгло металлом оставшихся монет, по телу пробежало знакомое чувство стыда. Присовокупив к видавшей виды купюре мелочь, стал пересчитывать. Вдруг поймал взгляд рядом стоящего оборванца, рука сжала содержимое кармана, вторая была готова для отпора. О Господи, да это же зеркало... В этот день впервые совершил кражу, украл бутылку водки.
Уже наступила ночь – зимняя ночь, огромная луна, много снега, небо, усыпанное звёздами. Как обычно, с Нордиком гулять ушли далеко, туда, где не встретишь людей. И всё было как обычно. Некоторое время смотрел, как он резвится, радуясь дарованной свободе. Достал украденную водку, выпил всю бутылку, снял одежду и лёг на снег.
Я лежал, смотрел на небо, на звёзды, перестал ощущать холод, начал засыпать. Во сне увидел лицо мамы, впервые так ясно после её смерти, она гладила меня по щеке и не плакала, а скулила по-собачьи. Через силу открыл глаза: Нордик лизал мою щеку и скулил. Увидев, что я пошевелился, он отбежал, сел и завыл. Меня пронзил стыд, стыд, который во мне до сегодня. Как же я мог предать это единственное существо, которое меня любит…
Встал только с третьей попытки, еле переставляя ноги, добрёл до сарая, где жил. Горела оставленная свеча. Посмотрев на Нордика, я ужаснулся – в уголках его глаз, словно капельки ртути, блестели замёрзшие слёзы.
Этот год для меня стал печальным, ушли удивительные люди. В память о них я сохранил этот рассказик, который ими был принят.
© Николай Подрезов, 2023.
© 45-я параллель, 2023.
