Фантазия в одном действии
Dramatis personae
Владимир
Джон
Молодой человек
Действие происходит в Нью-Йорке в июле 1976 года.
Предуведомление для господ актёров
В пьесе участвуют два персонажа, говорящие на разных языках. Для удобства представления и понимания пьесы, реплики персонажей произносятся на русском языке, при этом следует принять во внимание, что Джон говорит исключительно по-английски, а Владимир говорит по-русски, лишь изредка обогащая свою речь некоторыми простыми английскими словами. В этих случаях английский текст транскрибируется по-русски – Владимир, в целом, не знает английского.
Владимир и Джон никогда не встречались ранее и вряд ли встретятся ещё раз.
Предуведомление для господ читателей
Идея этой пьесы мне была фактически подарена одним моим знакомым – который как-то за бутылкой горячительного напитка вспомнил о возможности встречи Владимира Высоцкого и Джона Леннона в Нью-Йорке 70-х. Такая встреча действительно была возможна, но была ли она осуществлена – кто знает? Мой знакомый сам хотел написать пьесу на эту тему, но его захватили куда более важные и денежные проекты, а я – с его милостивого разрешения, конечно же – решил идею подобной пьесы воплотить в жизнь. Самым простым способом коммуникации героев могли бы стать их песни – Владимир и Джон наверняка смогли бы поговорит на языке музыки, но подобный исход казался мне чрезвычайно простым, а то, что просто – поневоле пошло. А уж нашим героям пошлость была чужда всю их недолгую жизнь.
Что касается названия – оно, конечно же, отсылает нас к давней пьесе Эдварда Олби, и я могу предположить, что скамейка в Центральном парке, на которой встретились Владимир и Джон – это та же самая скамейка, на которой когда-то сидели Питер и Джерри. Во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы это было именно так.
Предуведомление для господ режиссёров
При постановке данной пьесы просьба руководствоваться одним-единственным указанием: в ней не должна звучать музыка. Вообще. Допустимы шумы: пение птиц, звуки проезжающих машин и т.п. Но с музыкальной точки зрения – данная пьеса абсолютно беззвучна. Музыке в ней не место.
Поздний вечер в Центральном парке Нью-Йорка. Джон сидит на скамейке,
на нем – джинсы, футболка и лёгкий пиджак. Появляется Владимир,
он тоже в джинсах, рубашка расстёгнута, он явно немного выпил, но не пьян.
 Владимир. Простите… Ч-чёрт, как же это… Экскьюз ми, сэр, мистер… Как же… Сит даун? Можно? Сит даун, я, здесь, хиа, можно?
Владимир. Простите… Ч-чёрт, как же это… Экскьюз ми, сэр, мистер… Как же… Сит даун? Можно? Сит даун, я, здесь, хиа, можно?
Джон. Сесть? Вы хотите сесть?
Владимир. Ну да! Сит даун. Здесь, ага.
Джон (пожимает плечами). Садитесь, пожалуйста.
Владимир (садится). Вот спасибо. Сенк ю. Вы меня извините. То есть экскьюз ми. Экскьюз ми, что я к вам пристаю, мистер. Вы, вероятно, хотели отдохнуть. А тут я. Экскьюз ми.
Джон. Ничего. Не стоит беспокоиться.
Владимир. Ага, ну, нормально так нормально. А вот у меня, мистер, все не нормально. Все далеко не нормально, как бы я из кожи вон не лез. Вы сами из Нью-Йорка? Ю, как же это… Ю лив хиа?
Джон. Да, здесь, недалеко. Вон в том доме.
Владимир. О, солидно. Рядом. Хороший дом. Гуд. Вери гуд.
Джон (с улыбкой). Спасибо, нам тоже нравится.
Владимир. Ну, ещё бы. Рядом парк, есть где гулять. А мне, мистер, ваш Нью-Йорк как-то не очень нравится, честно. Ну, то есть он хороший, как вы говорите – окей, но вот, знаете, чего-то определённо не хватает. Я все пытался понять, чего же. И я понял. Я сегодня понял. Хотите, расскажу?
Джон. Мистер, я не понимаю, что вы говорите, но мне кажется, вы хотите что-то рассказать, да?
Владимир. Йес? Ну, раз йес, тогда расскажу, конечно. Спасибо. Сенк ю. В общем, вот, что я понял. Ваш Нью-Йорк – отличный город. Замечательный просто. Небоскрёбы, Центральный парк, все это безмерно красиво, все это здорово. Машины ваши, метро – я спустился, посмотрел. В магазинах все есть, вообще все. Телевизоры, магнитофоны, видеомагнитофоны… Можно с ума сойти. Но нет главного. Главного нет. Знаете, чего?
Джон. Я вас не понимаю.
Владимир. Донт андестенд… Сейчас, сейчас, уже почти, чуть-чуть… Понимаете, я ходил по улицам, меня встречали друзья – мои друзья, друзья моей жены, известные люди, прекрасные люди. Но кроме них – я не видел людей. Пипл. Понимаете? Пипл!
Джон. Люди?
Владимир. Да! Пипл! Люди! Нет людей! Есть – толпа. Есть масса. Вот нас учат, что именно воля масс управляет государством. То есть именно масса диктует всем и вся, как быть и что делать. Понимаете? А тут – масса в действии. Вот она такая – ходит по улицам, смотрит на витрины магазинов, что-то покупает, магнитофоны эти, одежду, джинсы… И им нет дела до тебя. Вообще нет никакого дела. Им и до соседа нет никакого дела. Я на пятой авеню увидел негра – бездомного, старого, он привалился к стене и даже, кажется, уже не дышал. А люди ходили мимо. Просто – мимо.
Джон. Я не понимаю ни слова, но вижу, как вы взволнованы, сэр. Хотел бы я знать, что с вами случилось… К сожалению, не понимаю… Вы откуда?
Владимир. Кам фром? Фром? СССР. Советский Союз, понимаешь? Юэсэсар, Россия! Раша!
Джон. О, Россия! Русский?
Владимир. Русский.
Джон. А вы кто? Чем занимаетесь?
Владимир. Дуинг? Что я дуинг? Хороший вопрос, хотел бы я сам знать на него ответ… Я так скажу: я актёр. Хотя… Я не совсем актёр…
Джон. О, актёр?
Владимир. Ну да, актёр, актёр… Но вообще-то я ещё и поэт. Понимаете?
Джон. Поэт?
Владимир. Хотелось бы… Вы, наверное, этого не поймёте, да и я не знаю, как объяснить… Очень хочется, чтобы тебя считали поэтом. Очень хочется быть этим самым поэтом – но есть такая штука, как правила, определённые правила… Рулз.
Джон. Правила? О, да, правила. Правила – это то, что губит общество, но одновременно – это то, что даёт обществу жить. Вам тоже не нравятся правила? Мне лично они совершенно не нравились. Но потом, знаете, как-то смиряешься. Как-то начинаешь играть по правилам…
Владимир. Это – смотря какие правила. У нас знаете, какие правила? У нас ого-го какие правила, такие правила, что и объяснить невозможно, зачем эти правила придуманы, куда они и к чему. Вот можете ли вы себе представить, чтобы считаться поэтом – нужно, чтобы тебя официально признали таковым. Официальный поэт. Офишиал поэт, андестенд?
Джон. Не понимаю. Как это – официальный поэт?
Владимир. Не понимаете? Вот и я не понимаю. И никто не понимает. Но если там (показывает наверх) утвердят, что ты поэт, то ты и будешь считаться поэтом.
Джон. Там? Наверху? Где Бог?
Владимир. Год? Бог? Да какой Бог, мистер! В нашей стране Бога нет, но у нас есть правила. Будешь играть по правилам – станешь выше любого Бога. В перспективе, конечно, а так – довольно просто быть выше Бога, которого нет. А вот вы верите в Бога?
Джон. Вы видели доллар?
Владимир. Доллар?
Джон. Ну да, доллар. Там на обратной стороне написано – «В Бога мы веруем», то есть на Бога уповаем, и он дал нам богатство, дал нам этот самый доллар. Когда про Бога пишут на долларах – сложно верить в такого Бога. Куда проще верить в этот самый доллар, раз он все равно Богом даден.
Владимир. А у нас нет Бога на деньгах. У нас на деньгах Ленин. Хотя, выходит, в нашем-то обществе именно Ленин и заменил Бога.
Джон. Ленин? О, я знаю. Мавзолей! Красная площадь!
Владимир. Да-да, ред сквэа. Она, Красная площадь. Кстати, красиво, тут ничего не скажешь. Вообще – Москва удивительно красивый город, он совсем не похож на Нью-Йорк ваш, да и вообще ни на один другой город не похож. Впрочем, каждый человек любит свой родной город, от этого никуда не денешься, вообще, что уж поделать. Но я – про поэзию. И про Бога, да. Потому что если мы говорим, что поэзия от Бога, то… Я сегодня говорил об этом у бассейна. Именно об этом – ещё о многом другом, но и об этом тоже. Ходите я расскажу вам, что случилось сегодня у бассейна?
Джон. Вы хотите мне что-то рассказать?... Хм, знаете, несколько лет назад я бы уже двадцать минут назад ушёл, и даже, наверное, с вами бы не заговорил. А сейчас – я знаю, что вы не понимаете ни слова из того, что я говорю, а я не понимаю вас. Но я вижу, я чувствую – вам надо выговориться. Так что – говорите, я слушаю. Пожалуйста.
Владимир. Плиз… Спасибо, мистер. Я недолго. Итак, что случилось у бассейна. Да, я сперва расскажу, что это был за бассейн. Так получилось – здесь у меня много друзей, очень много. Кому-то нравится, что я делаю в театре, кому-то нравятся мои стихи, нравится, как я пою… Я, получается, ещё и певец… Сингер….
Джон. Певец? Ого…
Владимир. Да, да, певец… Пою, но я пою как актер, понимаете, я проживаю каждую свою песню… Каждую. Именно поэтому, если я пишу песни, то пишу их как монологи, от первого лица. И если я говорю – «я», а песня, например, поется от лица самолета, эрплейн, понимаете, андестенд? – то я становлюсь этим самым самолетом.
Джон. Песня? О самолёте? Актёр? Боже, это какой-то невероятный человек, просто невероятный.
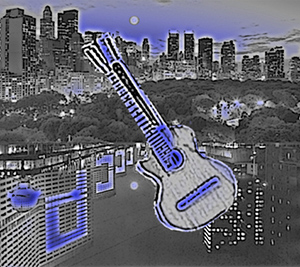 Владимир. Я вам спою потом, если захотите… И вот там, у бассейна, это был бассейн Миши Барышникова, большой такой, прямо на крыше устроен, прямо наверху, на крыше небоскрёба, представляете? – мы там все веселились, ну и выпивали, конечно. И они спросили меня тогда – не хочу ли я остаться. Понимаете – не хочу ли я остаться здесь, в Америке. Навсегда. Стей. Хиа. Ин Америка. Форевер.
Владимир. Я вам спою потом, если захотите… И вот там, у бассейна, это был бассейн Миши Барышникова, большой такой, прямо на крыше устроен, прямо наверху, на крыше небоскрёба, представляете? – мы там все веселились, ну и выпивали, конечно. И они спросили меня тогда – не хочу ли я остаться. Понимаете – не хочу ли я остаться здесь, в Америке. Навсегда. Стей. Хиа. Ин Америка. Форевер.
Джон. О, мне это знакомо. Я и сам когда-то здесь остался навсегда. Просто взял, решил – и остался. И, знаете, нет ни малейшего сожаления. Иногда так просто – взять и все поменять. Женщину. Дом. Город. Страну. Поменять и все. Потому что там, где тебе хорошо – там твой дом.
Владимир. Хоум… Дом… Да, там где гуд, там где хорошо… А вот что делать, если тебе – не хорошо? Если тебе не гуд?
Джон. Не хорошо?.. Знаете, я сейчас скажу то, что, наверное, не говорил никому и никогда. Иногда я начинаю чувствовать, что внутри меня живёт… кто-то другой. В нем нет ни следа от того Джона, который был лет десять назад. Тогда, конечно, было совсем другое время, и я был – мальчишка, ничего не понимал, ничего не знал. Но все было просто, понятно – весело и по-доброму. А потом… А потом ты меняешься. Ты начинаешь играть роль. Хочется казаться хорошим. Всем. Для всех. И ты начинаешь прикидываться. Притворяться. Имитировать. Врать. Постоянно врать. Дома ты один, с друзьями – другой, с коллегами – третий. А где ты – настоящий? Где тот мальчик, что радовался рассвету и смеялся, когда ночью муха ползёт по плечу и щекочет лапками? Неужели он навсегда исчез? Но нет ведь, вот он, по-прежнему жив, внутри меня, он здесь, никуда не делся? Но кому нужен этот мальчишка? Да никому. Попросту – никому…
Владимир. Ноуан. Никто… Да, никто. И никто не понял меня там, у бассейна – я же говорил, что должен рассказать вам о том, что случилось у бассейна? Там же тоже – никого не было, никого, кто бы понял меня, кто бы почувствовал, кто бы вообще мог представить, что со мной происходит. Они мне все, в один голос: «Спой, спой, Володя!» И я пою, а они – плачут. Они все – плачут. Там был Николсон. Там был Битти. Там все – плачут, понимают, все понимают, даже не понимая ни слова, ни звука, ни единой фразы… Они не понимают значения слов, но понимают при этом, о чем я пою. Фантастика! Опьяняет! Нечеловечески, похлеще водки…
Джон. Водка?
Владимир. При чем тут водка? Вот, стереотип, раз русский – так водка… Мы все оказываемся пленниками стереотипов, неуловимых, странных, невероятных стереотипов. И никуда от этих стереотипов не денешься – будь уверен в них, живи с этими стереотипами, не вырваться из них, не пролезть сквозь них, не изменить их. Раз Володя – так непременно с гитарой. Я же говорил, что я актёр? Знаете, сколько людей меня поджидает у служебного входа театра? Десятки! Передают кассеты, стихи, тащат выпить – обязательно будет какой-то ханыга со стаканом. И, с одной стороны, я не должен их обижать – в конце концов, они – от чистого сердца, они не со зла. И подписываешь фотографии, пластинки, просто бумажки какие-то, и отвечаешь, если спрашивают… Но нет-нет да и рявкнешь на кого-то особо назойливого – куда ж без этого, иначе не получается… А потом садишься в машину, едешь домой и коришь самого себя за это. Так вот, давайте я всё-таки дорасскажу, что было сегодня у бассейна…
Джон. Говорите, говорите, пожалуйста. Я вижу, вам важно.
Владимир. Импотант… Да, вери импотант. Вери мач импотант, я бы так сказал. Так вот – я пел им сегодня, там, у бассейна, и они сказали мне столько хороших, теплых слов, столько важных слов, столько невероятно искренних слов… Я думаю, они именно что были искренними – были, а не казались. И я улыбался в ответ, и мне было приятно. Ещё бы не приятно, когда тебя слушает сам Джек Николсон, великий Джек Николсон! И я допел, и захотел просто чуть-чуть передохнуть, пройтись – а они меня не отпускали. Вообще. Совсем. «Ещеё, ещё!» – кричали они. Но я все-таки вышел, спустился вниз, на лифте, долго спускался, это же небоскрёб – и очутился на парковке. Там я закурил и стал думать о том, что со мной только что произошло.
Джон. Не понимаю ни слова, но говорите, говорите, мне нравится, как вы говорите…
Владимир. Вот и они так же, кивали, улыбались и говорили, «лайк, лайк, джениус»… А я стоял на парковке, курил и думал – может, бросить все к чёртовой матери, остаться здесь, буду играть в Голливуде, авось, пристроят, буду что-то делать, язык выучу худо-бедно, я вот уже по-французски говорю немного, не последняя я бездарность все-таки. И вдруг – я вижу как к соседней машине идет… он.
Джон. Что?
Владимир. Чарльз Бронсон. Знаете его?
Джон. О, Бронсон! Ковбой!
Владимир. Да-да, ковбой! Сколько я фильмов с ним смотрел! Как мне нравились эти фильмы! Честно, нравились. Нет-нет, не подумайте, я не сентиментальный человек, но редко, когда увидишь на экране настоящего мужчину – сильного, смелого, красивого. И я сделал шаг к Бронсону, я просто хотел пожать ему руку, сказать ему это «спасибо», это «сенк ю», может, тоже сказать, что я актёр…
Джон. Что же случилось, хотел бы я знать…
Владимир. А он посмотрел на меня и говорит: «Гет аут». Отвали то есть. Понимаете, он принял меня за одного из назойливых поклонников, он думал, что мне нужен был автограф или что-то такое. Он меня попросту отшил, понимаете? Как я бы, например, отшил ханыгу со стаканом. Но я-то не ханыга! И я тут понял – я для него – как тот негр на пятой авеню, которого я видел, все проходят мимо, и никому не важно, что с ним происходит, жив он или умер. Все – даже Чарльз Бронсон – пройдут мимо меня, потому что никому нет дела, ни до меня, ни до кого-то ещё. Всем есть дело только для себя.
Джон. Он вам нагрубил…
Владимир. Для всех существуют только они сами – природный, а, может, приобретённый эгоизм, я не знаю, да и, признаться, разбираться не хочу. Я понял тогда лишь одно – играть по этим правилам я не буду никогда. Мне всё-таки нужна человечность, а не этот «гет аут». Мне нужно понимать, что все не просто так. Что я нужен этим людям, и что они любят не образ на сцене, а немножко любят и меня, за то, что я – человек. Не самый плохой человек, как мне кажется. А здесь – это невозможно. Это может быть только там, дома. И никаких других вариантов. К сожалению. Хотя – почему к сожалению? Если мне нельзя быть здесь, то кто сказал, что мне будет плохо – там?
Джон. Не знаю, о чем вы говорите, мистер, но ваши эмоции… О, я их понимаю. Я понимаю. Нью-Йорк завораживает, Нью-Йорк захватывает. Знаете, я родился в Англии, жил в Ливерпуле, потом в Лондоне, но нигде я не чувствовал себя в безопасности. Нигде, никогда. Это ужасно… Я когда-то играл в группе, не знаю, слышали ли о нас в России, но думаю, что слышали – во всяком случае, ваше правительство нас на гастроли к вам не пустило, – и мы были настолько популярны, что не могли и ярда по улице пройти.
Владимир. Популярны? Попьюла? О, мистер, кажется, мне все понятно… А я-то думал, что показалось, что просто… Что просто – похож… Получается, это – вы и есть. Не сказал бы, что знаю ваше творчество, но знаю, конечно, хотя не понимаю в этом ни черта… Просто – ни черта. Но вы – уже звезда, вы же не Бронсон, вы говорите со мной и не отшатываетесь. Значит это – двойной знак, двойное понимание. Еся – Бродский, знаете? Не понимаете? – Еся сказал мне, что вскоре и меня будут знать повсеместно, что мировая слава вот-вот – и придет. Но и тогда – вот знак мне, вот модель – быть как вы, мистер, но не как Бронсон… И ведь верно говорят, что если Бог хочет что-то нам сказать – то он общается с нами на языке случайностей. А когда случайность так… Популярна? Попьюла?
Джон. Популярны? Да не то слово! Я же говорю – нельзя было шагу шагнуть! Начиналось форменное безумие: дети, женщины, мужчины – на нас форменным образом набрасывались, разрывали на части. Вы давали автограф одному, а в это время от вашего костюма пытались отодрать пуговицу на память еще с десяток фанатов. Приходилось нанимать охрану, но и она не справлялась. Не справлялась, хоть ты тресни. И я решил уехать. Навсегда. Все рушилось – рушился мой мир, рушилось то, во что я верил, на что надеялся. Прошлое не сулило будущего, настоящее отвергало прошлое. И была только любовь – больше не было ничего…
Владимир. Любовь… И вы тоже – цеплялись за любовь? Лав?
Джон. Любовь, любовь… Она же тоже меняется, как и мы, мы растём – и любовь растёт вместе с нами. Я почти не видел свою мать – но знал, что она есть. Она приходила, да, обнимала меня большими руками – у неё почему-то были большие кисти рук – и смеялась, громко смеялась. И пела мне песни. И у меня была к ней любовь. А потом была другая любовь – к друзьям. К первой жене. К первому сыну. А потом… Потом я встретил женщину, которую полюбил больше, чем самого себя. А теперь нас трое (показывает на пальцах) Я, она и сын. Наш сын. Наш Шон.
Владимир. Шон? Сан? Сын? О, у меня тоже сыновья. Двое. В Москве сейчас. Хорошие ребята, растут. Старший все больше болеет, младший все больше шалит. Хорошие ребята – я вот зашёл в магазин, джинсы им купил, игрушки… Я плохой отец, наверное, редко их вижу – реже, чем надо…
Джон. А мой сын – что ещё мне надо, кроме него? Знаете, мы с вами сейчас разговариваем именно благодаря ему. Он изменил меня, совсем, наизнанку вывернул. Другим человеком сделал. Совсем другим. Раньше – я говорил! – я бы прогнал вас, обругал, поднял бы воротник и исчез. А сейчас – говорю с вами, несмотря на то, что не понимаю ничего. И вы меня не понимаете… Но мы же как-то говорим… Говорим ведь, да?
Владимир. Йес… Йес… И ведь я понимаю, с кем я говорю. Вот только жаль, что вы не понимаете, с кем вы говорите… Хотя, кто знает, может, и поймёте… Когда-нибудь… Сейчас я попробую сказать… Мистер… Сам дей… Ю вилл ремембер энд андестенд виз хум ю токд. Вот… Как-то так…
Джон. Что? Я пойму? Да, наверное… Может, там, у вас в России меня не знают, а вас знают… Но… Но я даже не знаю, что ещё сказать… (протягивает Владимиру руку, тот ее пожимает)
Владимир. Спасибо, что выслушали.
Джон. Спасибо, что выслушали.
Владимир. Идёмте? Выйдем вместе? Как-то символично будет – порознь пришли, но вместе пойдём. Ну, или я пораньше, а вы попозже. Может, хотите ещё посидеть?
Джон. Идите вперёд. А я за вами.
 Владимир медленно уходит, Джон, чуть помедлив, идёт за ним.
Владимир медленно уходит, Джон, чуть помедлив, идёт за ним.
В это время к скамейке подходит молодой человек,
садится, достаёт книгу, раскрывает, читает вслух.
Молодой человек. Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провёл своё дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, – словом, всю эту давид-копперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чёртиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться…
Затемнение
© Павел Сурков, 2014.
© 45-я параллель, 2014.
Пьеса публикуется впервые
Иллюстрации –
специально для альманаха-45
