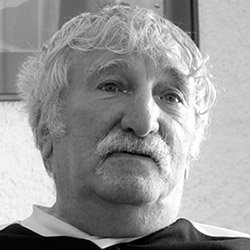* * *
Каким я был!?
Нужда покаяться,
ну, просто оторопь берёт…
Иду, надвинувший берет.
Пустующие гнёзда аистов
встречаются,
а сами птицы
умчались в тёплые края,
зимуем только ты да я,
ещё воробышек ютится
на голом деревце,
такой
же «удалой», как автор.
Надежда хороша на завтрак,
но ужин из неё плохой…
Русь
То блудница,
а то монашка,
то разумница,
то сумасбродка,
синеглазая неваляшка,
вроде падает,
но встаёт
по морям, по волнам,
как лодка
на свой верный курс,
на свой ход,
часто с креном и дифферентом,
Русь,
плывущая к горизонтам
с грузом
радостей и забот.
«Русь,
куда же несёшься ты?
Дай ответ!» –
Не даёт ответа…
… Ни зима, ни весна, ни лето
и ни осень, – сама свобода,
чудо гоголевской мечты,
Русь,
ты – пятое время года.
Судовое время
Всю жизнь прожил я без часов.
Мне пело судовое время:
всегда на борт взойти готов,
как будто ногу вставить в стремя!
Всё по секундам: ешь – не брейся!
Меня прозвали «секундант»,
и по моим пробежкам в рейсе
сверять бы мог прогулки Кант!
Механику
в промокшей робе
в жару
«Дай холода!» – кричал,
и,
находясь по пояс в рыбе,
я времени не замечал.
Те вахты – «восемь через восемь», –
подъём, отбой
и вновь подъём!
Вот так, по Гринвичу, живём,
покуда рыбу мы морозим!
Но взяли груз –
и шапки оземь,
и по-московскому пойдём!
…Возвыситься до амплитуды
тех колебаний
был бы рад,
чтоб снова прикоснуться к чуду,
когда ты сам – как циферблат,
и на обломках прежней страсти
привычек не менять
и впредь
часов для полного для счастья
не наблюдать и не иметь!
* * *
И. Строганову
Я никому бы не поверил,
что моря больше, чем земли,
покуда лично не проверил,
куда уходят корабли.
Но между строк прочтя в Гомере,
что Одиссей был одессит,
я к морю,
словно к высшей мере,
приговорён
и морем сыт.
Случилось сильное волненье –
двенадцать балов!
С этих пор
и приведён был в исполненье
мне вынесенный приговор.
А палуба была мне домом,
моей землёй,
моей судьбой.
Но иногда ямайским ромом
меня снабжал морской прибой.
Один глоток его,
к примеру,
поможет –
якоря поднять,
второй – взять курс,
а третий, в меру,
Гомера правильно понять.
… Ни водоросли, ни рыбы,
ни корабли, ни облака
и дня прожить-то не смогли бы
без Моря и без Рыбака.
Я никому бы не поверил,
что моря больше,
чем земли,
покуда лично не проверил,
куда уходят корабли.
Военное детство
В сфере духовного обитания
было у нас и такое питание:
смех сказать, одна репа,
и сырая, и пареная –
на любой, хе-хе, вкус.
Вспоминать так нелепо:
я кичился: «Мы парни!»,
а был карапуз.
Не прошёл войну, прожил в стороне.
но война-то сама прошла по мне…
* * *
Мой дом – моя крепость.
Поговорка
Я родился в Оренбурге,
провёл юность в Петербурге,
приземлился в Кёнигсберге,
ну, то бишь, в Калининграде.
Сотни слов ценой в сто эргов
Исписал в общей тетради.
Эти «берги» или «бурги»
были для меня тем домом,
что имеет смысл «крепость»,
где мой дух обрёл весомость,
ну, а плоть – полёт и крепость.
… Из родного Оренбурга в Кёнигсберг,
но, правда, через
Петербург,
всю жизнь я еду,
обретя желанный берег –
дом на Площади Победы,
что носил и имя Ганзы,
и «Трёх маршалов»
в столь разных
временах…
Упёрся лбом
В мою крепость
и мой дом,
где прожил я много лет,
морячина
и поэт!
* * *
Я выбросил в море три майки,
в работе истлевших дотла.
На Кубу, Гаити, Ямайку
легко их волна отнесла.
А ночью на палубу «Веги»
упало три малых звезды,
как будто бы тройка в разбеге
свихнулась от быстрой езды.
Я трижды горел на работе
под шум корабельных винтов,
за дух процветанья на флоте
к любым испытаньям готов.
Ещё
до последней побудки
сношу я три майки подряд...
Под музыку боцманской дудки
три новых звезды догорят.
Да будут три тайны открыты
рыбачкам,
созвездьям,
цветам...
Короткие строчки открыток,
искусанный текст телеграмм.
Твои сухопутные губы
шутя произносят слова:
Ямайка, Гаити, Куба –
Антильские острова.
На Куршской косе
Брожу меж сосен в одиночку,
как раньше в жизни не бродил,
и только пушкинскую сточку
твержу: «Октябрь уж наступил...»
Брожу без знаков препинаний:
безоблачный приют для дум.
И тишину моих блужданий
сопровождает сосен шум.
Как сосны высоко воздеты –
считают вёрсты до небес!
Мои бродячие сюжеты:
и дюны, и залив, и лес…
Зеленоградск
Я вхожу в твой дикий парк раскованный,
и деревья шепчутся, тихи.
Угощаешь ты меня шиповником,
посвящаю я тебе стихи.
Этот город я одушевляю –
как русалка, он зеленоглаз,
а ещё и воодушевляю
на любовь
мой Кранц-Зеленоградск.
По сравнению с тобой – мальчишка,
но любви все возрасты покорны.
Умная компьютерная мышка
передаст Тебе мой код проворно.
Будто бы по электронной почте
Затеваю я с тобой игру.
Жду ответа я и днём и ночью –
Симкин Сэм. Собака. Точка.Ру.
* * *
Кто раковину в общем хоре
услышит – тот верит уже,
что снова дыхание моря
поможет воскреснуть душе.
Вот так же приложишься ухом
К земле.
Постижимо ль уму,
что будет и пухом, и духом
она же тебе самому?
Ты сам позабудешь едва ли
о хлябях морских
и потом
припомнишь, кого отпевали
в Никольском соборе Морском.
Сумеешь подслушать у Баха,
как льётся и стелется свет, –
и близкую к телу рубаху
ты с честию сносишь на нет.
* * *
Покуда над стихами плачут…
Б. А. Слуцкий
Возможно попаду не в тему,
не тот причал
и не тот год,
но всё давно уже не те мы,
да я и сам давно не тот.
И голос мой давно не ломкий,
и сам давно заматерел.
Коль знал бы –
Подстелил соломку,
коль ведал бы – пуд соли съел…
А я, дурак, не знал, не ведал
(и в ус седеющий не дул),
какие шли по следу беды,
какой штормяга бил и гнул!
И всё же так, а не иначе,
живу,
душой не обнищал,
«покуда над стихами плачут»,
как Б. А. Слуцкий завещал.
* * *
В окно, в иллюминатор гляньте-ка:
как юнге с отроческих лет,
и мне привиделась Антлантика,
моих привязанностей цвет.
…По праву палубного общества
с завидной лёгкостью
и впрямь
даны не имена и отчества –
одни эпитеты морям.
Дыханье моря учащённое:
отливы зла, прилив щедрот.
Оно и Красное, и Чёрное,
И Мёртвое оно.
А флот
в нём с первого весла крещён
и самой первой в мире лодки.
Когда, солёное, ещё
Затребуешь мой век короткий?..
* * *
Под высоким небом на траве лежу,
ни к единой церкви не принадлежу.
Одобряет купол неба голубой,
что сильней всего я верую в любовь.
На лугу роскошный синтаксис без слов
путаных, неправильных полевых цветов.
А над лугом ласточки, возвратясь из странствий,
осторожно нижут время на пространство.
Я, перебирая клавиши души,
слышу птичий голос: «Ты лежи, лежи…»
И пытаюсь песню Грига напевать,
знаю, жизнь ко смерти глупо ревновать.
Сверху льётся козье молоко луны,
разбавляет тесто тёще на блины.
Верблюд в зоопарке
Морскому зверю – море льётся,
а вот пустынь не создают.
И скучно, скучно!
Не плюётся
цивилизованный верблюд.
Здесь, как в оазисе, побеги
цветут.
Служителей гурьба.
А он мечтает о побеге
и копит мужество в горбах.
И видит:
шествуют верблюды,
их гонит солнечный удар,
их бьют измученные люди,
когда кончается вода.
Там, в дюнах, с ними счастье ходит,
но нет ему пути назад.
Он вдохновенно мордой водит:
ему б вернули этот ад!
И вновь светлеет отрешённо
его раскосый жёлтый взор,
и за узорчатой решёткой
встаёт пустынный горизонт.
А по входным билетам честно
разгуливает праздный люд,
и никому не интересно,
что слишком тесно здесь и пресно…
И докажи, что ты – верблюд!
Мой каштан
Рядом с Домом народного творчества,
не сгибая разлапистый стан,
от мороза февральского корчится
опекаемый мною каштан.
Но зато уже в солнечном мае,
прилетающих птиц голоса
услыхавший,
он свечи вздымает
в опрокинутые небеса.
В октябре по закону природы
он швыряет на землю плоды.
Я все радости и все невзгоды
Доверяю ему.
От беды
и от сглаза
я крупные чётки
из этих плодов сотворил
и под рюмочку русской водки
с моим деревом говорил,
исповедуясь.
С ним, с молчаливым,
не подсчитывая барыши,
я рифмуюсь…
О дивное диво,
древо творчества,
дервиш души!
Тост перед разлукой
Немного дыма и немного пепла…
Осип Мандельштам
Давай с тобой
присядем на дорожку,
нальём из фляжки,
удила закусим,
немножко «вздрогнем»
и взгрустнём немножко,
немножко выпьем
и чуть-чуть закусим.
Напоминает это
смех сквозь слёзы,
немножко весело,
немножко грустно,
чуть-чуть
поэзию разбавим прозой,
немножко письменно,
немножко устно.
Всё по чуть-чуть.
Как в первоклассной пицце,
всё в жизни перемешано
и, кстати,
чтоб не последней спицей в колеснице
мне быть среди
моих поэтов-братьев.
Гори огнём!
Стоять всем по местам
и с якоря сниматься, чтобы крепла
строка…
И как учил нас Мандельштам:
«Немного дыма
И немного пепла…»
К морю
Я шёл к нему, судьбы началу,
за тридевять земель
и за
благословеньем –
клокотало
и выжигало мне глаза.
Закольцевало,
как зазноба,
ажурной сканью зазвеня,
ошеломило до озноба
и разом грянуло в меня.
Из книг я вычитал его,
открыл в разноголосом хоре,
но первый раз увидел море –
и стало страшно и легко.
Оно звало меня:
«Пойдё-ё-ём!»
и пряталось в тумане синем,
но было лёгким на помине,
и я стал лёгким на подъём.
Пошёл за совесть и за страх
и не обрёл судьбы дороже:
оно надолго въелось в кожу
и запеклось на вымпелах!
Семь степеней его свободы
всегда несёт в себе моряк.
Их не утратишь через годы,
как невозможно дважды сходу
войти в одну и ту же воду
и как нельзя гасить маяк.
* * *
Транжирь себя на нужды флота,
всю душу выложи, как мот,
иначе море, как болото,
тебя по горло засосёт.
Здесь только полная отдача –
тогда траления легки,
тогда придут к тебе удача
и рыб большие косяки.
И,
перегнувшись через планширь,
увидишь вдруг на гребне волн
всё,
что не замечалось раньше,
чем переполнен был и полн.
Что, не скупясь,
ты растранжирил,
на благо флота промотал –
несёт перед тобой в ранжире
седьмой,
восьмой,
девятый вал.
Ведь флот, он так же, как
искусство:
он требует всех жертв сполна.
И на листах морской капусты
напишут наши имена.
* * *
Я «нежную божбу» матросов,
неприхотливый быт и кров
не променял бы,
кровь из носу,
на все соблазны всех сортов.
И чем обильнее,
чем пуще
захлёстывает волнолом,
тем хлеб черней и пена гуще
в пивной рыбацкой за углом.
Здесь рыбаки – как сельди
в бочке!
Груз кругосветных новостей
сюда идёт без проволочки,
без подписи морских властей.
От угольных причалов
и до
красноречивого угла
порт круглосуточным стал
гидом,
его душа в моей жила.
Видны сквозь отходные ночи
лишь провожающих платки.
Поют про синенький платочек
нам пароходные гудки.
* * *
Я как сапожник свою дратву,
смоля,
стишата прошиваю
и перед Богом
даю клятву,
что Его проповедь живая
со мной пребудет до конца.
Таков был постулат юнца.
И вот дошло до завещания,
мои смолистые венки
сонетов, сделанные с тщанием,
гудят под ветром, высоки.
«Да будет сильною строка» –
надежда тешит старика.
© Сэм Симкин, 1970-2010.
© 45-я параллель, 2022.