№ 25 (85) от 1 сентября 2008 года
ВВК: официальная био…
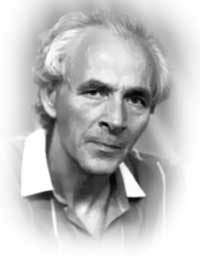 Владимир Васильевич Кудинов (31.03.1938 – 6.08.1990)
Владимир Васильевич Кудинов (31.03.1938 – 6.08.1990)
Работал журналистом в газете «Ставропольская правда», редактором в Ставропольском книжном издательстве, где вышли в свет три сборника его стихов:
«Зал ожидания» (1980);
«Перекрёстки» (1984);
«Позвольте мне предсказывать погоду» (1987).
В 1979 году стал лауреатом премии имени Германа Лопатина – за серию очерков о воспитании советской молодежи в духе преданности родной земле, верности делу отцов-хлеборобов.
ВВК — прототип ВВД,
или Последняя шутка поэта
 У замечательного писателя Евгения Панаско (царство ему небесное!) есть фантасмагория «Правила игры в жизнь, или Порнографический роман». Одним из самых ярких персонажей этого необычного произведения (увы, полностью до сих пор не изданного) стал Василий Владимирович Дудинов, поэт и журналист. За чьими именем, отчеством и фамилией без труда угадывается поэт и журналист Владимир Васильевич Кудинов (и ему – то же самое царство небесное!). У реального человека и литературного героя — великое множество «общих примет»: лёгкое заикание, акцентированная жестикуляция и поразительное портретное сходство с легендарным полководцем Александром Васильевичем Суворовым… Друзья даже подтрунивали над Кудиновым: «Тебе бы мундир генералиссимуса, Володя, и в Кремль без паспорта пустят! Правда, это чревато многочисленными обмороками у солдат, офицеров а также у парней в штатском»». Стоит подчеркнуть, что и крамольные для 70—90-х годов прошлого века мысли принадлежат, бесспорно, ВВК…
У замечательного писателя Евгения Панаско (царство ему небесное!) есть фантасмагория «Правила игры в жизнь, или Порнографический роман». Одним из самых ярких персонажей этого необычного произведения (увы, полностью до сих пор не изданного) стал Василий Владимирович Дудинов, поэт и журналист. За чьими именем, отчеством и фамилией без труда угадывается поэт и журналист Владимир Васильевич Кудинов (и ему – то же самое царство небесное!). У реального человека и литературного героя — великое множество «общих примет»: лёгкое заикание, акцентированная жестикуляция и поразительное портретное сходство с легендарным полководцем Александром Васильевичем Суворовым… Друзья даже подтрунивали над Кудиновым: «Тебе бы мундир генералиссимуса, Володя, и в Кремль без паспорта пустят! Правда, это чревато многочисленными обмороками у солдат, офицеров а также у парней в штатском»». Стоит подчеркнуть, что и крамольные для 70—90-х годов прошлого века мысли принадлежат, бесспорно, ВВК…
Предлагаем вниманию читателей «45-й параллели» главы из «Правил игры в жизнь», в которых главным действующим лицом становится Дудинов, столь удачно «рифмующийся» с Кудиновым, что люди, хорошо знавшие поэта, невольно (и радостно, и печально!) выдыхают: «И это всё о нём…»
Амбивалентное отношение к Родине
<…>
...В туалетах, например, рисунки! <...>
А надписи? Нет места на стене свободного. <...>
...номерок даётся телефонный и глаголы <...> —
хочу, сосу, даю. <...>
Встречались и похабные стишки
безвестных подражателей Баркова.
И зачастую даже потолки
являли взору матерное слово... <...>
Но сурово какой-то резонёр грозил поэту,
который пишет здесь, а не в газету!...
Тимур Кибиров, «Сортиры»
 В кабинет к Дудинову Юрий Иванович (так уж сложилось) входил без стука. А седой и вечно дымящий дешёвой сигаретой В.В. искренне радовался любому его визиту — хоть мимолетному, хоть затянувшемуся на час-другой.
В кабинет к Дудинову Юрий Иванович (так уж сложилось) входил без стука. А седой и вечно дымящий дешёвой сигаретой В.В. искренне радовался любому его визиту — хоть мимолетному, хоть затянувшемуся на час-другой.
А тут — звонок:
— Юра! В-вечерком с-сможешь заглянуть? — голос Дудинова ни с чьим не спутаешь. — Н-ну, конечно, пос-сле традиционного обхода шефа. Да и, пожалуйс-ста, по двери кос-стяшками пальцев легонько пос-стучи — нечто вроде «Калинки-малинки…» ис-сполни.
Зная щедрого и на чёрный, почти чифирный чай, и на искреннее гостеприимство Василия Владимировича, Юрий Иванович удивился. Но незамысловатую мелодию отрепетировал, барабаня поначалу какой-то проходной опус на машинке, а затем, прикусив нижнюю губу, отстучал «Калинку» по забрызганному ноябрьским дождём оконному стеклу.
В дудиновском «малиннике» он обнаружил уже, видимо, исполнивших пароль, Курицына, Фанасюка и Красулевского. Дудинов махнул рукой: мол, усаживайся и, хмыкнув, торжественно заявил:
— С-сегодня, в канун В-великой, м-мать её, р-революции, а также в преддверии В-великого, м-мать его, переворота, пить вас, други, не призываю. Чай и кофий — пожалуйс-ста. Н-но ничего крепче не предлагаю. На голову, на трезвую пос-слушайте. Я тут подражание Баркову напис-сал… Даже не подражание, а вос-споминание по с-самиздатовским источникам. В-вариантов — тьма, я их с-свёл в один, прос-стите за нес-скромность, текс-ст. — И В.В., не меняя тона, без всяких там подвываний и (что неудивительно — стихи же!) почти не заикаясь озвучил вот какую балладу:
«Е...на мать» не то значит, что мать е...на,
Е...ной матерью зовут и Агафона,
Да не е...т его, а хоть и разъе...ть,
Всё ж он пребудет муж, а не е...на мать!
«Е...на мать!» тогда кричат, когда рожают,
Е...ной матерью недругу угрожают,
И ежели кто с кем зачал зело браниться,
«Е...на мать» уж непременно говорится.
«Е...ну мать» кладут и в знак кому презренья,
Но может также стать, значит она — почтенье.
Сие присловье можно и в любви сказать:
«Любезен сердцу ты мне, брат, е...на мать!»
«Что за е...на мать?!» — то есть недоуменье,
«Ах ты ж, е...на мать!» — то будет восхищенье.
В каких значеньях «мать е...ну» говорят,
То перечислить сразу можно ли навряд.
В прямом лишь смысле мать е...на не годится,
А в образе чужом всегда она рядится.
Под гиероглиф сей всё можно прие...ть:
Синонима есть всем словам «е...на мать».
«Е...на мать» — как пище соль, как масло каше,
Вкус придаёт словам и живит речи наши.
Не правда ль, скучно без приправы речь внимать?
Вот как нужна «е...на мать», е...на мать!
— Боже мой, — схватился за голову Курицын. — Да есть ли у этого сортирного поэта хоть пара строк без мата?!
Тут всех поразил Юрий Иванович, который ответил вдруг вместо Дудинова:
— Да, есть. Целых три строки подряд без мата. Причём, я бы сказал, для своего времени пассаж замечательный, в чём-то предвосхищающий тему пушкинского «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»
— И какие же это строки?
— Сейчас вспомню... Ага. Послушайте:
Хвали себя, колико можно,
Чтоб быть хвалёну — хвастать должно.
Дар гибнет там, где славы нет!
Все помолчали, осмысливая.
— Да, с-старик, сказано лапидарно, — заявил Дудинов. — «Дар гибнет там, где с-славы нет...» Где ж т-ты это вычитал?
— В БАНе, — скромно ответил мой герой. — Имеется в виду не место общественного пользования для мытья, а библиотека Академии наук в Ленинграде.
— Вот оно, преимущество столичного образования, — уныло посетовал Фанасюк. — Где б я в Пятигорске нашёл такую БАНю?
— И что, вход был свободный?
— Да куда там! — засмеялся Юрий Иванович. — Это всё находилось и находится в так называемом спецхране. Просто я, как студент, склонный к самостоятельной научной работе, имел туда допуск... Ну преподаватель был у нас замечательный, со связями, и кто хотел работать, тому он помогал и таким образом. Кстати, и в Пушкинском доме, куда вроде бы вход свободный, тоже есть свой как бы спецхран.
— Ты и там был? — с завистью спросил Фанасюк.
— Был. И держал в руках подлинные рукописи Пушкина и Лермонтова...
— Я так думаю, — изрёк свою мысль до сей минуты молчавший Красулевский, — вся барковиана, вся неподцензурная литература гуляли, как принято выражаться, в неисправных списках и до нынешних дней дошли в рукописных и машинописных копиях. А потому никогда мы эти тексты в первозданных, авторских записях не увидим.
Курицын, брезгливо морщившийся при чтении стихотворения, вошедшего в барковиану XX века, снял очки, протёр незаменимые окуляры и произнёс фразу, которую можно было ожидать от кого угодно, но только не от него:
— А ведь нам со школьной скамьи талдычили, что русская литература целомудренна? О какой литературе речь! Неужто не существовало «Гаврилиады» Пушкина? А его же «Царь Никита и сорок его дочерей»? Или Лермонтов не писал своих юнкерских поэм?
— Хотя, по с-своей глубинной с-сути, — восхищенно заметил Дудинов, — юношес-ские опус-сы наших гениев — вс-се о том же, други, вс-сё о том же: о любви к нашей рас-спрекрас-сной и рас-стреклятой Рос-сии…
Юрий Иванович, чувствуя, что коллеги ждут от него подтверждения этих эмоциональных пассажей, совершенно искренне поделился своим давним наблюдением:
— Пушкин и Лермонтов, согласитесь, часто рядышком стоят, — их, волей-неволей, сравнивают… А ежели чуть дальше взглянуть?
Два блестящих образца отношения к родине с чувством, сложно смешивающим любовь и жалость с презрением и ненавистью, можно найти у сначала у Михаила Юрьевича, а затем и у Николая Алексеевича Некрасова. Позволю процитировать знаменитые лермонтовские строки:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ…
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей —
И от всевидящего глаза,
И от всеслышащих ушей…
А теперь — битте-дритте! — внимание! Экспромт Некрасова из его письма Лонгинову:
Наконец из Кёнигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал «е...на мать»,
И пошли передо мною
Рожи русские писать.
Фанасюк, уже давно ёрзавший от нетерпения вставить умное слово в сей революционный диспут, затараторил:
— Мужики! Мужики! Братцы! А я ведь анекдотом кашу не испорчу. Вы только послушайте. — И, поскольку репортёра Фасю (была у неугомонного и такая кличка) никто не перебил и не стал останавливать, как обычно, он более степенно изложил: — Итак, значится, анекдот, причём, в отличие от вашего Баркова, без мата. Разговаривают два червяка, сын спрашивает папу: «Папа, а хорошо жить в яблоке?» — «Да, сынок, хорошо». — «И в груше?» — «Конечно!» — «И в апельсине тоже можно жить?» — «Ну, в апельсине просто здорово!» — « А почему же мы с тобой живём в говне?» — «Но ведь это — наша родина, сынок!»
Похохотали всласть… Курицын, приложив палец к губам и увидев, что его жест верно понят товарищами, начал свою байку:
— А ведь в Ставрополе живёт, ну если не ходячий анекдот, то уж человек-фельетон — точно! Догадались? Юра, ясное море, с ним не познакомился — но чаша сия тебя, старик, не минует. Писатель Бородай-Чёрный любит Родину. Что называется, до опупения. Забавный, ей-богу, случай. Оный беллетрист — натуральный перевёртыш. То он — сталинист, то антисталинист, то алкоголик, то абстинент, то коммунист, то — ненавидит партократов… Автор двадцати книг, которых на самом деле десять и из которых восемь — брошюрки преходящего характера и нулевой художественной ценности. Но две книги действительно были: «Золотая голова идиота» в манере и в духе раннего Гладилина и «Тринадцатый подвиг Мухтара», написанный в творческой командировке с государственной границы.
А ещё Бородай-Чёрный — автор (якобы, текста никто не видел) трёхтомного романа-эпопеи «Люди и бляди», за который Валентин Порфирьевич, если б его творение опубликовали, непременно получил бы «Нобелевку». Не публикуют-де, по утверждениям перевёртыша, из-за названия. «Автор не должен поступаться!» — голосит на каждом шагу Бородай... А эпопею Чёрный никому не даёт — опасаясь плагиата: «Растащат, подлецы, по кусочкам!»…
— Уно моменто! — хлопнул себя по лбу Юрий Иванович. — Я ведь не знал, зачем меня Василий Владимировыич зазывает. Сейчас — мигом! — слётаю за своей записной книжкой. Там у меня несколько цитат — аккурат в тему.
— Три минуты хватит?! — азартно и почему-то шёпотом выдохнул Красулевский.
— Сам знаешь, тут — через дорогу, — встрял Фанасюк. — Пардон! Через коридор...
Заветный блокнот, хранившийся у Юрия Ивановича с младых, студенческих, времён нашёлся быстро. Мой герой держал его в специальном — этаким фертом! — закрученным карманчике портфеля, портфеля, ничуть не уступающего благородной старческой потёртостью тому изделию из кожи, которым по праву гордился в поры приснопамятные Михаил Михалыч Жванецкий…
Ю.И., перед тем как возвращаться на ноябрьские посиделки матёрых революционеров матерного слова, щёлкнул одним замочком, другим, третьим. И в мозгу у него что-то щёлкнуло: «…вчера были по пять, но во-о-т такие большие, а сегодня — по три, но во-о-от такие маленькие». Накат, как его окрестили сослуживцы, длился мгновение, но мой герой успел прошептать: «Боже, а ведь портфель у Михаил Михалыча сопрут. Как пить дать сопрут. Вместе с автомобилой…»
— Принёс? — хором выдохнули Фанасюк и Красулевский. Дудинов и Курицын по-отечески глянули на Юрия Ивановича. Но промолчали…
— Вот что пишут умные люди, — начал питомец питерской словесности. — Извольте! Известный литературовед Зорин: «Думается, что подготовка образованного латиниста, умелого версификатора, превосходного знатока и ценителя современной ему поэзии была использована Барковым, чтобы олитературить те области жизни и, прежде всего, языка, которые существовали за пределами дозволенного». Каково? А мы — матерщинник, сквернослов, похабник… В университете, кстати, нам говорили, что профессор усматривал в сочинениях Баркова «сознательную и строго продуманную борьбу» с поэтической системой классицизма, в которой пародируются все его жанры. С точки же зрения Зорина, «…это верно только отчасти». Исследователь полагает, что «борьба с поэзией классицизма»... не была главной задачей для Баркова...»
Фанасюк сопит. Курицын вновь протирает линзы. Дудинов чифирь заваривает. А Красулевский тянет вверх большой палец правой руки, поддерживая то ли Юрия Ивановича, то ли литературоведа Зорина, в кабинете, понятое дело отсутствующего.
Оставим собратьев-журналистов в этой таки революционной диспозиции, ибо и у автора есть собственная позиция, коей уж больно хочется поделиться с тобой, любезный читатель.
Внимательные очи наверняка усмотрели, что этой главе предпослан эпиграф. Неспроста, ёлы-палы, неспроста. Эпиграф заполучил весь роман и его ноябрьская часть. Признаюсь: главу, омытую осенним дождичком, автор хотел назвать и вовсе эпатажно: «Ничего, кроме мата», но, поразмыслив, решил, что и в веке XXI в редакторе взыграет ретивое, и матерная глава «пойдёт погулять», несмотря на то, что Баркова, всё ещё некрепко стоящего на ногах в нашей отечественной периодике (не говоря уж о литературе!) подпирают три богатыря — Пушкин, Лермонтов, Некрасов. А мои герои? Ну какое у них, чёрт побери, реноме? Пьянствуют, анекдоты травят, за женщинами приударяют. Эх, ма… Придётся самому сию щекотливую тему завершить.
Юрий Иванович, чисто по рассеянности, свойственной натурам, из которых окончательно не выветрился романтический дух, успел выписать в свою книжицу и вот этакую замечательную цитату из журнала «Литературное обозрение»: «...какие внутренние силы заставляют русское художественное сознание веками созидать и лелеять эту тайную, «чёрную», «теневую» словесность?
Ответ... в общем... ясен: это — форма нашего бунта. Это вечный русский бунт, социально-эстетический протест, жажда безудержной и безграничной свободы в ситуациях кризисов, оборачивающаяся, увы, самозабвенным беспределом. Это апофеоз дерзости... за которым... прячется подавленное отчаяние».
От себя же автор, находясь в трезвом уме и ясной памяти, заявляет следующее: чудовищный мат, сквернословие, «вкус к говну», так отличающие русский язык и народ от иных, цивилизованных наций — отражение вечного разлада в обществе, протеста против бездарного управления страной, но по существу — самопротеста (французская пословица: всякий народ достоин своего правительства!), характерного, лишь за некоторыми исключениями, едва ли не для всего периода русской истории. (И Александра Второго, отменившего крепостное ярмо, и премьера Петра Столыпина, заявлявшего «Противникам государственности <...> нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия», убили. Народ и его наиболее чуткая часть — интеллигенция — рукоплескал).
Обыденное грязное сквернословие, «потаённая» литература — всё это характерно только для нас, поскольку мы как народ принципиально не способны стать действительно цивилизованной нацией. Наша жизнь по сути своей, по меняющимся, но одинаково неприемлемым условиям существования, порнографична. Мы действительно представляем для себя урок для человечества как убедительный пример: человеку так жить нельзя.
Но живём!
< …>
— М-махнём, — глядя в оба, попридержал у двери Юрия Ивановича Дудинов, — ты мне ц-цитаты, а я — с-свою верс-сию Баркова.
На следующий день мой герой отдал В.В. пассажи из «Литературного обозрения», любовно, без помарок, перепечатанные на машинке, а к ним в придачу — неизвестный Дудинову экспромт Некрасова.
— Д-держи, с-старичок, авос-сь п-пригодится, — вручил Юрию экземпляр стихотворения «Е...на мать» ташлореченский соавтор Баркова.
Поэзия не есть версификация
< ... >
 — Василий Владимирович, — пристала к Дудинову Катька, — вот вы всё знаете. Скаламбурить — значит сказать что-то смешное. А что такое сам каламбур? Что это за слово такое?
— Василий Владимирович, — пристала к Дудинову Катька, — вот вы всё знаете. Скаламбурить — значит сказать что-то смешное. А что такое сам каламбур? Что это за слово такое?
— Всё з-знает, наверное, только господь бог, — сказал польщённый Дудинов, — но ес-сли в масштабах «Ташлянки», т-тогда главный эрудит у нас Юрий Иванович...
— Про Юрия Ивановича я много чего знаю, — рискованно заметила Катька, — но это литературный термин; Юрий Иванович — прозаик, а вы, дядя Вася, поэт...
Вторично польщённый, Дудинов начал разъяснения:
— С-слово это — ф-французского происхождения; с-скаламбурить значит по-русски — сказать не просто что-то с-смешное, это значит — придумать шутку, основанную на игре слов.
В этот момент вошёл праздношатающийся по редакции Фанасюк, прислушался к дудиновским объяснениям и, разумеется, сразу же рассказал пошлый анекдот:
— Поручик Ржевский услышал такую шутку: «Идёт клипер, на клипере шкипер, у шкипера триппер. Игра слов, господа!» Все очень смеялись. Поручик решил при случае блеснуть остроумием, и на очередном балу рассказывает: «Идёт баржа, на барже капитан в жопу пьяный, а у всех матросов сифилис. Игра слов, игра слов, господа!»
— С-Серёжа! — укоризненно сказал Дудинов. — Ну как тебе не с-стыдно при Кате такие гадости рассказывать?
Фанасюк, сроду не называемый в редакции по имени, а только лишь по фамилии, был так поражён этим обращением, что смутился, вымолвил в сторону Катьки: «Пардон, пардон, мадмуазель!» — после чего поклонился и вышел.
— В-вот был в прошлом веке такой поэт — Минаев...
Тут в дверь отдела, которая почти и не закрывалась никогда, вновь кто-то вошёл, и Дудинов, отвлёкшись, поглядел. Это был Тимофей Ильич Гвоздюк собственной персоной.
— Вы продолжайте, продолжайте... — сделал жест рукою в сторону хозяина кабинета заместитель редактора по хозяйственной части. — Я тут по своим вопросам... — И стал осматривать петли, ручки, замок на двери; искать на шкафах инвентарные номера и сличать их со списком в пухлом блокноте. Этой деятельностью Тимофей Ильич занимался регулярно, редакционный народ к ней попривык, и еженедельный учёт шкафов, столов и несгораемых сейфов уже не так поражал воображение, как раньше, когда эта неутомимая перепись некоторое время стояла в ряду таких же фундаментальных загадок, как звёздное небо над нами и нравственный закон внутри нас.
Катька скорчила рожицу в спину деловитому Гвоздюку и сказала:
— Василий Владимирович, ну дальше, дальше!
— Так вот, Минаев... Вообще это был яркий поэт-сатирик, но также и выдающийся представитель каламбурической поэзии. Вот, например, пос-слушай:
Область рифм — моя стихия,
И легко пишу стихи я.
Без задержки, без отсрочки
Я лечу от строчки к строчке,
Даже к финским скалам бурым
Обращаясь с каламбуром.
Ну как? Здорово? Он вообще был, Минаев, очень талантливый человек. Но больше всё-таки версификатор, чем поэт, если не говорить о сатире...
— Версификация — это ведь умение писать стихи, разве не так?
— Да, именно так: умение писать стихи. Но не в-всякие стихи — п-поэзия. Найти удачную рифму, не сбиться с размера — всё это в-важно, но это не главное. П-поэзия не есть версификация! Поэзия — это... это, в конце концов, неопределимо.
— Понятно и очень доступно, — съязвила Катерина.
— Ладно, ладно, не н-насмешничай. Ты девочка умная, п-поймёшь всё сама...
— А Минаев?
— Что Минаев?
— Ну ещё что-нибудь расскажите... Про него или про каламбурическую поэзию... А то начали, а толком ничего не договариваете.
— П-почему же? Я действительно только начал. Однажды Минаев поспорил со своим приятелем-поэтом, не помню с кем, кто быстрее придумает рифму на слово «окунь». А это, должен тебе заметить, очень трудное слово... Ну, по-видимому, оба приятеля были в это время на верховой прогулке, то есть на лошадях. Приятель Минаева долго молчал, но ничего не придумал, и Минаев победил в этом споре. Он сказал:
Мы рядом ехали с тобой, конь-о-конь,
Я песни пел, а ты — молчал, как окунь!
— Тоже каламбур?
— Здесь просто блестящая рифма! Пожалуй, единственная т-точная рифма к этому слову в русском языке. Да, версификатор он был превосходный... Ну, вот ещё пример каламбура... м-м-м... не помню начала... Н-ну смысл в том, что неудачливый драматург спрашивает, как в театре прошло представление:
— С шиком пьеса шла? Без шика ли?
— С шиком, шиком: громко шикали, —
отвечают ему. Тут каламбур и сатира одновременно.
— А я думала, если есть форма, то есть размер и рифма, и если есть содержание, ну — то есть стихи не бессмысленные, это и есть поэзия. Вот здесь понятно: Минаев, наверное, не просто так написал, а имел в виду конкретного драматурга, да?
— В-возможно, — пожал плечами Дудинов. — Обычно сатира на современников умирает вместе с самими с-современниками... во всяком случае, переживает ненадолго.
— А Свифт? — задала коварный вопрос умненькая Катерина.
— Ф-филфак тебе обес-спечен! — радуется Дудинов. — Вопрос п-правильный. «Робинзон», о-сставшийся от Д-дефо, как и с-свифтовские «Путешествия Гулливера» п-пережили своих авторов на триста лет, причём в качестве детского, подросткового чтения, хотя задумывались ими для взрослых современников и с с-совсем иными целями... Но история далеко не так проста, особенно со Свифтом, «Гулливер» не с-сводится только к сатире на с-современные автору проблемы... Это отдельный разговор. И со с-смыслом не надо так п-примитивно рассуждать, как Гвоздюк, — продолжает Дудинов, совершенно забыв, что Тимофей Ильич у него сейчас в кабинете. — «Взвейтесь, красные знамёна, с-славься, праздник Октября...» Здесь только видимость смысла, а мысли — нет. А вот так называемая заумная поэзия — существует. Вот Хлебников — великий поэт! — писал, например, так:
Крылышкуя золотописьмом тончайших жил,
кузнечик в кузов пуза уложил
прибрежных много трав и вер.
Пинь-пинь-пинь! — тарарахнул зензивер.
О лебедиво! О озари!
— Ничего не поняла, — сказала Катька. — Нет, — вдруг задумалась она, — первая строчка понятна... Это же кузнечик летит! И как красиво придумано! А что такое зензивер?
— Умница, — опять не удержался от похвалы Дудинов. — Зензивер — птичка т-такая... П-прямолинейная, п-примитивная с-серьёзность вовсе не признак настоящей поэзии, даже наоборот. Хорошие с-стихи бывают иной раз с-совершенно несерьёзными: К-Козьма Прутков, весь пос-строенный его авторами на пародийности, живёт по-прежнему, хотя ос-смеиваемые литераторы-современники давно померли... И Евгений С-сазонов на шестнадцатой полосе «Литературки» иной выдаёт п-просто ш-шедевры! Вот одно четверостишие из его п-путевых, так сказать, впечатлений:
Мы плывём по Ахерону,
По-над нами Южный Крест.
А для возчика Харона
Homo homini lupus est!
Видя по озадаченному лицу Катерины, что тут уж она ничего не поняла совершенно, Дудинов пускается в пространные объяснения, хотя заключает с сожалением:
— Правда, з-здесь юмор построен на очаровании бессмыслицы, есть такой приём, тут уж или смеёшься, потому что сразу смешно, или уж не смеёшься... Но тут и с-сатира, хотя и в общем виде, на жанр так называемых путевых заметок и впечатлений...
Гвоздюк всё это слушал, наливаясь кровью. Он демонстративно захлопнул свой пухлый блокнот, завинтил авторучку, но не уходил, так как засёк время, исстрачиваемое заведующим отделом культуры, понимаешь, на посторонние разговоры.
Дудинов, ничего не замечая, не унимался:
— В-вот ещё пос-слушай, чистый жанр «очарования бессмыслицы»:
Как-то сели в шарабан
Селивёрст и Селифан.
Э-э-э... Ну, в общем, д-дальше что-то вроде:
Поиграть решили в карты
И поехали на бал.
Часто в городе бывая,
Они знали, кто давал.
В то же самое время... э-э-э... значит, так:
Аккурат об эту пору
Торопилась девка к лору,
Шла Манефа по лугу
К отоларингологу.
На свою, на женску долю
Девка двинулась по полю,
По траве-полыннику
Прямо в поликлинику...
Ну, с-стало быть, Селивёрст с Селифаном её п-подобрали... и дальше п-поехали втроём, пообещав завезти её в поликлинику.
«Что-то у тебя болит?»
«Не болит, но — тонзиллит.
Осложнение почуя,
Прямиком иду к врачу я.
К Отто, ларингологу,
Шла я нынче по лугу».
Замечает Селивёрст:
«А туда не семь ли вёрст?
Давай свернём в сторонку:
На бензоколонку».
И пока на той колонке
Заправлялися овсом,
Селифан, в сужденьях тонкий,
Рассуждает обо всём:
«В этом слове — тонзиллит —
Очень многое звучит.
Тон, тонзура, прозелит,
Вензель, тензор и транзит,
Зина, лоно и буллит,
Нету Евы — есть Лилит,
Зонт, литол и линотип...»
Селифан, понятно, тип...
Э-э-э... ну — такой, ш-шибко эрудированный. Он перечисляет ещё массу созвучных слов, а затем, увлёкшись, говорит:
«Даже хоть на бал иду,
Я готов играть в балду!»
С-селивёрст же озабочен Манефой и б-беспокоится:
«Мы вот горло чаем греем,
Не идя к врачам-евреям
Потому как, видите ли,
Все они — вредители!
Так не лучше ли, Манефа-джан,
Повернуть в Азербайджан?
Там тепло, вода морская,
И гласит молва мирская:
Где цветут акации —
Не надо операции!»
Манефа отвечает:
«Не еврей, а немец Отто,
Как в "Войне Кавказской" Потто
Генерал был немец Засс...
Немцев множество у нас!»
Ус-спокоив таким образом С-селивёрста, Манефа отправляется в поликлинику, а друзья — на б-бал, где играют в карты.
А тем временем Манефу,
Будто в карты даму трефу,
Мечет грубо немец оный
На стол операционный.
И не любил, не миловал!
А тонзилэктомировал...
Дудинов, забыв стихи ставропольского поэта Семёна Ванетика, бессовестно импровизировал и закончил тем, что операцию, начатую врачом-вредителем Отто, закончил патологоанатом, и подоспевшие Селивёрст с Селифаном уже ничем ей не помогли.
Так, прикрыв злодейство клизмой,
Погубил Манефу лор,
Нанеся социализму
Несмываемый позор!
Катька долго смеялась, потом сказала:
— Это шуточные стихи, здесь всё понятно. А вот наш Фанасюк, например, он тоже легко сочиняет всякие шуточные стихи; так он поэт или не поэт?
— Ф-фанасюк — поэт?! — воскликнул Дудинов. — Н-насмешила! Ну, с-скаламбурить... это он может. Но Фанасюк — и поэзия! Д-да он и рядом с ней не лежал!
Тут же в кабинете возник неистребимый Фанасюк и осведомился:
— Кто имя моё поминает всуе, да ещё и хулит?!
Но Дудинов ничего не успел сказать, потому что в разговор совершенно внезапно вклинился замредактора по хозяйственной части:
— Фанасюк, ты вот с институтским образованием, а знаешь, что такое «коломбур»? А то вот я только и слышу здесь заумь всякую. А к празднику Октября, стало быть, стихи примитивные!
— Да, п-примитивные, — с вызовом произнёс поэт Дудинов, — к искусству отношения не имеют!
Гвоздюк прожёг взглядом презираемого им Дудинова, пробормотал в его адрес нечто вроде: «Надо бы с ним на открытом партсобрании разобраться!» — и снова обратился к Фанасюку:
— Это одно слово — «коломбур», или два — «колом», значит, «бур»?
— Как вы сказали, Тимофей Ильич? — с подчёркнутой серьёзностью осведомился Фанасюк. — «Коломбур»? Вы неправильно фонетируете. Надо: «ко-лан-бур». И, если хотите, привожу персональный пример… — Тут Фанасюк скороговоркой произнёс: — Тимофей Ильич Гвоздюк телом бел, а калом бур, — после чего неприлично заржал, но вспомнил про Катьку, молча положил руку на сердце, скорчил на лице извинение и на всякий случай вышел, боясь как дудиновского, так и гвоздюковского гнева, если тот уловит смысл.
Тимофей Ильич, естественно, ничего не понял и на этот раз. Однако и Дудинов, и Катька веселись; и было видно, что Фанасюк, как всегда, подшутил над заместителем главного редактора, так любил именовать себя Тимофей Ильич. Слова по хозяйственной части, если речь не шла о непосредственных его обязанностях, Гвоздюк обычно опускал. Итак, Фанасюк опять надсмеялся над старшим по званию. Тимофей Ильич побагровел и… направился в редакционную библиотеку. Однако, проверив наличие столов, шкафов и стеллажей, он не нашёл там того, что искал.
— …Разрешите, Борис Наумыч? — спросил Гвоздюк, однако вошёл по-хозяйски, чувствуя себя с Чуевым на равной ноге: тот зам, но и я ведь, понимаешь, тоже зам. Он оглядел кабинет и сосредоточил внимание на огромной, под потолок, стенке, в которой в открытых секциях стояло множество книг.
— Ну? — неприветливо осведомился Чуев, отрываясь от свежесвёрстанной полосы. Почувствовав недовольство первого заместителя редактора, Гвоздюк, что называется, убавил прыти и обратился к Чуеву в меру должной почтительности.
— В кабинете вашем, Борис Наумыч, имеется самый полный, какой только бывает, словарь русского языка, аж в четырёх томах. Он за нашей библиотекой числится; я только что проверил и мне доложили — у вас он.
— Ну? — вновь повторил Чуев столь же отчужденным тоном.
Гвоздюк слегка смешался, потом спросил, нельзя ли ему в этом словаре справиться о значении двух-трёх слов, каковые ему, Гвоздюку, неизвестны.
— Я без выноса, Борис Наумыч, я понимаю, раз он у вас стоит, а не в библиотеке, значит — для работы нужен…
— Ну вон он, — кивнул Чуев в сторону четырёхтомника Даля 1913 года издания. — Только недолго.
И Гвоздюк углубился в словарь.
…Чуев уже свёл всю правку, снял один материал, велел по селектору срочно дослать замену, вызвал курьера, отправил полосу… а Гвоздюк всё изучал словарь Даля. Чуев наконец заинтересовался необычным явлением.
— Тимофей Ильич, — спросил он уже помягче, хотя терпеть не мог присутствия у себя в кабинете посторонних, когда не по делу, — что вы там ищете? Скажите. Может, я помогу?
— Да вот, Борис Наумыч, ищу я три слова, мне непонятных… а их нету! А ведь тут действительно все русские слова имеются, Борис Наумыч, даже ведь, — он оглянулся, хотя в кабинете больше никого не было, и понизил голос: — Даже слово «блядь» всеми буквами напечатано! И оказывается, в типографии положено это слово говорить; а я всё слышу там, когда бываю по хозяйству чего проверить: «блядская строка» да «блядская строка»; уж и Юрий Иваныч — сроду ведь не матерится, тоже раз в трубку кричал Степанычу, чтоб он блядские строчки убрал, где помечено! И другие слова — тоже имеются, я сейчас специально проверил! А тех, которыми меня обозвали сегодня, ни в одном томе нету. Я так думаю, Борис Наумыч, что буквами-то писали раньше другими, читать очень трудно, как по-иностранному… Может, и слова-то эти иностранные? Я, правда, немецким владею со словарём, — прибавил он, как писал всегда в анкетах, хотя знание немецкого ограничивалось у него двумя фразами: «Шпрехен зи дойч?» и «Их либе зих», а также следующим диалогом: «Вас ист дас?» — «Дас ист дер унитас». — «Вас костет дас?» — «Фюнф унд цванцих маркен».
— Что ж за слова такие, которыми вас обозвали? — совсем успокоился Чуев: ситуация стала его забавлять. — И кто оскорбитель?
— Да Фанасюк, конечно, мать его… — не договорил Тимофей Ильич, потому что имел обыкновение обкладывать матом подчинённых, имел привычку к употреблению обыденных матерных слов в компании равностоящих с ним, привык — выслушивать матюги от вышестоящего начальства, но снизу вверх, он знал, по собственному почину выражаться не положено.
— Ну? — подбодрил Чуев остановившегося Гвоздюка.
— Да вот так он сегодня выразился: Тимофей Ильич, мол, теламбел и, значит, коланбур. И ещё заявил, что я это... неправильно фони… тирую, что ли.
Чуев явно озадачен, смысл до него пока не дошёл. Подбодрённый молчанием заместителя редактора, Гвоздюк продолжает:
— Амбал — не амбел, а амбал: знаю такое слово, но какой же я амбал? Децибел — тоже знаю, это прибор такой, им уровень шума измеряют; бур знаю, а этих вот слов — никогда не слыхал! Да я вам сейчас напишу слова эти, — заявляет Гвоздюк, вынимает из внутреннего кармана дорогую авторучку с золотым пером, — а то ведь и забыть недолго.
Уставившись на подсунутый ему листок, Чуев понимает, что «коланбур» — это, конечно, каламбур, но в чём смысл и соль фанасюковской шутки, пока не постигает.
— А о чём же у вас разговор шёл? — задаёт он наводящий вопрос и закуривает.
— Да Васька Дудинов… он с курьершей нашей, ну — молодой, такие разговоры в рабочее время ведёт — уму непостижимо. Сорок пять минут трепался! Я по часам проверил, Борис Наумович. Как будто у него служебных обязанностей нет.
— Ну?
— Я когда вошёл, объяснял он ей, что такое поэзия… но не всякая, а именно вот — коланбурическая. Стихи ей читал, а она разинув рот слушала.
— И что за стихи? — дымя, осведомился Чуев.
— Борис Наумыч! Ну разве я могу такие глупости помнить?
Гвоздюк с полным равнодушием относился к поэзии вообще, хотя для вида всегда заявлял авторитетно, что лучше Пушкина у нас поэта нет (Пушкина, впрочем, он тоже не читал — так, со школьных лет задержались в памяти какие-то разрозненные строчки). И раз лучше, чем Пушкин, не напишешь, так чего ж стараться? А уж местные, ставропольские поэты, тем более ташлореченские, и вовсе вызывали у него презрение. Лучше уж марки собирать, или вот — действительно интересное занятие: рыбок разводить в аквариуме. Рыбки — это красиво, это Гвоздюк понимал. Не понимал только, почему в книжном издательстве за эти самые стихи порой даже деньги платят.
Кроме Пушкина, как уже говорилось, Гвоздюк признавал стихи в газете — но не те, конечно, которые печатаются на четвёртой полосе в литстранице, а первополосные, традиционно публикующиеся в красные дни календаря. «В них смысл есть, идея, — утверждал Гвоздюк, — такие стихи даже газета «Правда» печатает, а какой смысл в том, что Дудинов наш пишет? Да тьфу, и больше нечего сказать!»
Тут совершенно внезапно Чуев вдруг понял, что означает таинственное слово «теламбел». В следующую секунду он понял и весь каламбур, замер на мгновение, давя улыбку, но даже усы у него не дрогнули. Он отложил сигарету, нажал на кнопку селектора, осведомился у секретарши, где именно сейчас болтается Фанасюк, и нажал другую кнопку.
— Слушаю, Борис Наумович, — отозвался Дудинов.
— Я тут с Гвоздюком сейчас разбираюсь… Фанасюк у тебя?
— Так точно, товарищ первый заместитель главного редактора, — рявкнул селектор голосом разыскиваемого ёрника.
— Значит так, товарищ Фанасюк, — сказал Чуев с полной серьёзностью в голосе. — У меня тут сейчас Тимофей Ильич, озадаченный вами. Вы у нас, конечно, грамотный, пединститут закончили, да ещё иностранное отделение. Однако с сего момента я запрещаю вам использовать иностранные слова в разговорах с заместителем редактора по хозяйственной части.
— Будет исполнено! Отныне буду называть его только по-русски, чудаком! Меняя некоторые буквы!
— По имени-отчеству, — строго сказал Чуев и выключил селектор. — Ничего плохого он вам не сказал, Тимофей Ильич, — обратился он к Гвоздюку. — Назвал чудаком. Только использовал иностранные слова вместо русских. А фонетировать — это значит правильно произносить.
…И лишь когда закрылась дверь за завхозом, Чуев позволил себе похохотать. Он ещё смеялся, когда вошёл курьер с очередной полосой, разостлал её на столе перед заместителем редактора и с некоторым испугом спросил:
— А чего вы смеётесь, Борис Наумович?
— Да так, — ответил Чуев, сгоняя улыбку. — Вычитку по отделам разнёс?
— Нет ещё… Я не запомню никак, кто в каком отделе… а они ещё заменяют друг друга…
— Ну, выясни всё это в секретариате! Не первый же день работаешь? Потом разрежь, разнеси, а через полчаса приходи за полосой. Да! Скажи-ка секретарше, пусть зайдёт.
— Ты этого м-м-м-мудака Гвоздецкого ко мне можешь не пропускать? — спросил Чуев с чувством.
— Могу! — с готовностью откликнулась Верочка, не любившая Гвоздюка за беспрестанную критику: секретарша, мол, должна постоянно работать — печатать, например, что-нибудь на машинке, звонить куда-нибудь (но по делу, а не с подругами лялякать), а губы вот красить и ногти подравнивать в рабочее время не положено.
— Ну вот и хорошо. Способ сама придумай.
Верочка долго не думала. Она позвонила в типографию выпускающему и строгим голосом сообщила:
— Володя! Надо сегодня же набрать и тиснуть несколько сменных табличек на двери начальства. Записывай: «Не входить! Идёт вычитка номера». «Не входить!» — ну, в общем, в каждой табличке крупными буквами — «не входить». Это главное. А далее ещё такие тексты, помельче: «Идёт совещание». «Идёт оперативное селекторное совещание». «Готовится срочный материал в номер». «Готовлюсь к отчёту». Ну… чтоб ещё такое придумать…
— «Идёт разговор по прямому проводу», — подсказал Жатский.
— Отлично! Ну и хватит, пожалуй. Да, ещё одну, без «не входить»: «Вызван в обком КПСС». Или лучше — «на вызове в обкоме»?
— Вызван, вызван лучше. Вызван, значит, и насовсем. Всё?
— Записал?
— Записал. Отличные идеи у вашего начальства. Могу ещё одну табличку предложить: «Зачислен в члены Политбюро».
— Но-но! Критикуешь начальство, а оно и твоё, между прочим. А тексты я сама придумала.
— Что-то в тебе пропадает, Верунчик… Ты способна на большие дела! Ладно, к вечеру сделаю…
Тут снова загудел селектор, и Верочка поспешила к Чуеву.
— Слушай, Веруня… — сказал Чуев, щурясь от дыма очередной сигареты. — Ты не знаешь, почему сегодня мне опять носит полосы этот придурок? Ведь Катерина в редакции?
— Так его очередь сегодня… — растерялась секретарша. — А Катька в редакции потому, что теперь после школы она постоянно у нас болтается… То у Дудинова, то с Юрием Ивановичем… Да и мать знает, что дитё на виду, мало ли чего в этом возрасте.
— Не нравится мне этот курьер, — с раздражением сказал Чуев. — Вот Кузьмич был — ас… Но это дело прошлое. А сейчас, мне кажется, Катерина всё делает быстрее и лучше.
— Зато в паре с Катериной выпускающим в типографии Степаныч, а сегодня Володя Жатский.
— Да, это, пожалуй, справедливо! — засмеялся Чуев.
Литературная подёнщина
< … >
 В секретариат вошёл Дудинов, молча сел на свободное место и обхватил голову руками. Курицын покосился на бывшего коллегу, выдержал паузу, потом всё-таки любопытство взяло верх:
В секретариат вошёл Дудинов, молча сел на свободное место и обхватил голову руками. Курицын покосился на бывшего коллегу, выдержал паузу, потом всё-таки любопытство взяло верх:
— Ты что это вроде как не в себе?
— Р-ребята, — сказал жалобно Дудинов. — В-возьмите обратно!
— Надоело графоманов редактировать? — ядовито осведомился поэт Курицын, имеющий сложные отношения с издательством, несмотря даже на нынешнее наличие в редакторском корпусе бывшего коллеги-газетчика и побратима по цеху лирической поэзии.
— Н-назначили н-нового д-директора, — сообщил Дудинов с трагической миной. — И как в-вы д-думаете, кого?
— Не тебя — это уж точно, — констатировал Курицын.
— А это был бы, между прочим, не худший вариант! — высказал своё мнение Юрий Иванович!
— Д-да куда м-мне, убогому! — отбился Дудинов. — Ф-фетюкова к нам п-привели! А сей фрукт р-раньше с-стоматологом р-работал, п-пока в-всему окрестному н-народу зубы не п-покалечил. А б-брат-то его — в-второй ч-человек в обкоме…
— Увы, знаю, — коротко резанул Юрий Иванович.
— И в-вообще, д-директорами, н-наверное, н-назначать д-действительно н-нужно т-таких людей, которые хоть что-нибудь в экономике п-петрят. Н-ну, вон в Ставрополе: люди с-стали в-ведь премии п-получать, издательство план в-впервые за много лет выполнило! — продолжил свою выстраданную песню Василий.
— За счёт «Королевы Марго»! — осклабился Курицын.
— Н-ну и что?! — вскинулся Дудинов. — Во-первых, Дюма не т-такой уж плохой писатель, между п-прочим.
— Это не факт! — подпрыгнул и развеселился Курицын. — Есть и другие мнения. На последнем краевом писательском собрании автор «Хуторских колодцев» — ну, ты знаешь, — махнул он рукой в сторону Юрия Ивановича, — и тебе, наверное, зубы заговаривал; так он обрушился на Ставропольское книжное издательство именно за «Королеву Марго»; причём товарища Дюма назвал не как-нибудь иначе, а любимым писателем валютных проституток.
— Круто! — оценил Юрий Иванович.
— В-вот он, п-понимаешь, был и есть, п-понимаешь, экстремист — самый натуральный! — воскликнул Дудинов. — Что ж, одни «Х-хуторские колодцы» выпускать?
— А что ты имеешь против? — мирно осведомился Курицын, — принимаясь за подсчёт строчек.
— Н-ничего, кроме того, что н-народ хочет и отдохнуть от нашей, п-понимаешь, напряжённой с-сознательной жизни... И потому покупает «Королеву…». Она ж — как универсальная валюта.
— Валютная проститутка?! — неудачно сострил Курицын. — А ты, братец Вася, потакаешь низменным вкусам и сам, пардон, альфонсом становишься…
Юрий Иванович не выдержал боле: он встал, развернул Курицына лицом к дверям и поддал ему лёгкого пинка, от чего поэт, ускорившись, прямёхонько попал в вечно открытую дверь секретариата и исчез из поля зрения весьма удивлённого таким развитием событий Дудинова.
— Ты, Василий, шибко не переживай: с Курицына — как с гуся вода, — подытожил инцидент Ю.И. — Он даже редактору ничего не вякнет. А я вот пойду, за тебя, бедолагу, хлопотать. Наш шеф, ты же знаешь, профессионалов ценит. Авось, возьмёт обратно.
И действительно: Базарный сильно не артачился, зная, что для «Ташлореченской правды» лучшего стилиста, чем Дудинов, не сыскать. Стилиста, конечно, громко сказано, ибо сам В.В. сокрушенно называл себя правщиком чужих опусов. Не более того. Но и не менее…
<…>
— Т-то, К-катенька, чем я с-сейчас занимаюсь, есть в чис-стом в-виде л-литературная под-дёнщина, — сказал Дудинов.
— А как это? — задала она свой любимый вопрос, после которого, все это знали и Дудинов тоже, деваться уже было некуда: надо было объяснять. Да и пора было уже отвлечься, отдохнуть.
— А это, н-например, так. В п-плане с-стоит очередной с-сборник м-молодых поэтов. — Временами Василий Владимирович, как уже отмечалось, почти переставал заикаться: чудны дела твои, Господи! — Между прочим, поэтов может и не быть, но этот сборник — быть обязан… И потому под молодых косят обычно престарелые графоманы.
— Да разве престарелый графоман может быть участником сборника молодых поэтов?
— Запросто!... И с-сборника, и, так с-сказать, с-сборища! В Ставрополе, между прочим, литературное объединение при газете «Молодой ленинец» регулярно посещает некто Банев — огромный, как шкаф, старик, медлительный, неповоротливый; хочешь верь, хочешь не верь, а он посещал литобъединение молодых поэтов — не в «Молодом», разумеется, которого тогда просто не существовало, — ещё во времена РАППа! Своими глазами видел и слышал Маяковского, Кручёных, Асеева, Василия Каменского!
— И слышал глазами? — невинно осведомляется Катя.
— Да не придирайся к с-словам! — отмахивается Дудинов. — Ты, понимаешь, с-сам факт оцени!
— А что такое РАПП?
— Ассоциация пролетарских писателей. Была российская, а была затем и всесоюзная — ВАПП. Вреда, м-между прочим, нанесла… по с-сей день не расхлебать.
— Банев, Банев… — бормочет Катя. — А я думала, это литературный персонаж.
— Ну, персонажа такого я не знаю… А молодого, или, как ещё говорят в таких случаях, начинающего поэта Банева видел, и неоднократно. Ему, наверное, лет восемьдесят, так что он уже давно начинает… В кружке пролетарских писателей начинал.
— А какой такой вред принесла ассоциация пролетарских писателей?
— А вот такой, что я с-сижу, понимаешь, и переписываю чужие с-стихи…
Видя недоумение на лице у Катерины, литподёнщик Дудинов пускается в объяснения.
— У нас, Катенька, всё на свете с-самое, понимаешь, передовое. Такой, по замыслу, должна быть и литература.
— Что значит — по замыслу? Разве Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский были кем-то… спланированы?
— Катя, ты попала в точку. Спланировать появление таланта невозможно. Но только не у нас — в стране планового хозяйства. Ты «Интернационал» помнишь?
— «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов…»
— Ключевая фраза в гимне: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, понимаешь, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот, понимаешь, с-станет всем!»
— И какое отношение этот гимн имеет к нашей самой передовой литературе?
— А самое непосредственное! Прежде всего, понимаешь, надо всё разрушить, и потому в первые же годы советской власти появляется лозунг пролеткульта: с-сбросить Пушкина с корабля с-современности! К с-свиньям, понимаешь, с-собачьим! Вся предшествующая литература — она ведь буржуазная, не так ли? А нам нужна литература пролетарская! Кто был ничем — тот должен был, по идее, стать всем. И землю должен был попахивать, и стихи пописывать. Великий поэт так с-считал, но — ошибался. Тот, кто всегда был ничем, и землю пахал неважно, и стихи писал никуда не годные… С-следовательно, надо было ему помочь… Насчёт вспашки — здесь, правда, так у нас ничего и не получилось, а вот в литературе советской новые принципы утвердились прочно. И т-товарищ Горький роняет однажды удивительную мысль: вот, дескать, з-замечательно талантливый, истинно п-пролетарский автор! Один у него недостаток — не владеет словом…
Тут Дудинов не выдерживает и взрывается:
— Автор, не в-владеющий словом! Токарь, не знающий, понимаешь, куда вставить резец! Водитель, не умеющий управлять автомобилем!
Катя слушает, слегка приоткрыв ротик.
— И вот, — Дудинов вновь переходит на лекторский стиль, — п-появляется невиданный в мире институт л-литературных редакторов. Это люди, которые владеют словом. И редактируют то, что творят истинно пролетарские поэты и прозаики. То есть — переписывают…
— Переписывают? — поражена Катерина.
— Так с-сказать, правят… — горько усмехается Дудинов. — Интересно, что c-сказали бы Гоголь с Достоевским, не говоря уже о Пушкине, если б в издательстве, куда они с-сдали рукопись, кто-то стал бы их править!
— А что, раньше редакторов вообще не было?
— У них, Катя, были другие функции. И сейчас на Западе нет такого понятия, как редактор — в нашем, с-советском понимании. Там есть нечто вроде… даже и не знаю, как это назвать. Организатор, что ли. Или — представитель издательства… литературного агентства… Там ищут талантливых авторов, там могут, напротив, найти интересную тему и предложить её автору, там изучают конъюнктуру спроса и там рискуют, идя на издание никому не известного писателя. Рискуют, правда, довольно осторожно. Там принято выпускать книги вначале небольшим, так сказать, пробным тиражом, и потом, по мере того, как книгу раскупают, допечатывать её.
— А у нас?
— А у нас в квартире газ. У нас, Катенька, на всё имеется план! Как запланировано, так и выпускается.
— Но ведь… наверное, план сначала обсуждается… как-то изучается заранее читательский спрос…
— Ха и ещё раз ха. Составление плана — это с-святая с-святых, понимаешь. И всегда это тайна, покрытая мраком…
— Не понимаю, — сказала Катя. — Я всегда думала, что если книжка нравится читателям, её обязательно выпустят ещё раз…
— Ещё раз выпустят Михалкова, — сказал Дудинов. — А не Олега Григорьева. Ещё раз выпустят Казанцева. А не братьев С-стругацких. И так далее.
— Может быть, бумаги не хватает?
— Гонорара не хватает! Кстати, у нас ведь и самая прогрессивная, уникальная, понимаешь, с-система оплаты писательского труда… Ты знаешь, что в нашей стране от читательского спроса в принципе ничего не зависит?
— Я знаю, что чем больше тираж, тем больше платят автору.
— А тираж зависит — от плана, а не от с-спроса! Но всё-таки самое главное для определения гонорара — это толщина!
— Какая толщина? — удивляется Катерина.
— Толщина рукописи, то бишь, её объём в авторских листах…
— Теперь доходит, — улыбается Катя. — За каждую лишнюю буквочку — звонкая копеечка.
— Да, Катя, такие вот дела. И поскольку в плане стоит с-сборник начинающих авторов, мы и с-собираем его с бору по сосенке… Чтобы заполнить объём, приходится править. Беру я, например, и читаю такой с-стишок:
Ты посадила сад за домом,
уж десять лет с тех пор прошло.
А у забора всюду донник,
вьюнок обвил его назло.
Читаю я его, стало быть, и спотыкаюсь. Читаю дальше:
В саду смородина, крыжовник,
шиповник и калины куст.
Там вишни, яблони, тутовник
наводят радость или грусть.
И заметь: спотыкаюсь снова. Как говорится, на том же с-самом месте.
— А я поняла! На последней строчке: ведь правда?
— Точно. Но не только, хотя в этом стихотворении хоть какая-нибудь, не только последняя, строчка в каждой строфе убогая, прилеплена кое-как. Ну вот ещё:
Прямы картофельные грядки,
а также грядки чеснока.
Тебе хватает «для зарядки»,
хотя ещё болит рука…*
Какая зарядка? Почему ещё болит рука? Ну и так далее. Но должен сказать, для справедливости, что автору есть что сказать. Просто она плохо владеет словом… В с-стихах есть тема: пожилая женщина посадила сад, и вот уже десять лет для неё он не просто сад-огород, а ещё и какое-то высокое, понимаешь, дело, в котором она выражает свою душу, саму себя. Мне кажется, тема здесь есть, но и недостатков много. Почему вьюнок назло обвил донник? Назло кому? Почему в ряду плодовых деревьев тутовник — эта ягода в общем для детского удовольствия, с-серьёзного с неё ничего не получишь, если, конечно, не разводить шелкопряда. Тутовник, я думаю так, понадобился автору для рифмы. Так же, как и калины куст, как и «грусть», хотя, я так думаю, авторица собиралась выразить этой с-строчкой то обстоятельство, что один год бывает урожайный, наводит, так сказать, радость, другой раз дерево плодов не даёт, понимаешь, вот тебе и грусть. Но с-сказано плохо.
Попытка улучшить отдельные строчки в данном случае мне ничего не дала, хотя обычно я так и делаю. А в данном случае я взял да и переписал всё стихотворение заново. И вот что получилось:
Тому уж десять лет, наверно,
как ты растишь за домом сад.
Растёт с годами он уверенно,
хоть был не каждый год богат.
Вьюнок обвил забор, белея,
чуть жёлтым донником расшит.
А за смородины аллеей
страна плодовая лежит.
Здесь яблони растут и вишни,
кусты крыжовника, а вот,
в трудах твоих отнюдь не лишний,
произрастает огород.
С природой слитый воедино,
природы сам частица, сад
итог даёт простой и дивный —
закономерный результат
твоих трудов, забот и тягот.
Собрать итоги поспеши:
ведь урожай плодов и ягод
есть также плод твоей души.
Катя захлопала в ладоши, и Дудинов, явно польщённый, состроил соответствующее выражение лица, развёл руками и констатировал:
— Вот так и работаем!
— Ещё, — потребовала Катерина.
— Ну… вот ещё такое было стихотворение у этого же автора… Она, понимаешь ли, женщина пожилая, иной раз, видимо, задумывается уже и о том, что всех нас ждёт… — Он прочитал:
Что за мною, старость, мчишься
по пятам, злодейка-змейка?
Что ты облаком клубишься,
лезешь в косы, чародейка?
Всё лицо избороздила,
перепутала все годы,
понесла и закружила
по дорогам непогоды,
где метелятся дороги,
снег кружится в мутном небе.
И метели на пороге,
во дворе сугробы снега…
Катя наморщила лобик, приоткрыла рот.
— Н-ну, — поощрительно сказа Дудинов. — Тема?
— Тема понятная, старость.
— Хорошо. Правильно. Ну, а образная система?
— Образ снега… Это седина… Неотвратимая, как метель, старость врывается в жизнь женщины.
— Катя, с-сдавай на филфак. Пятёрка гарантирована!
— Я ещё не решила, куда поступать.
— Точно тебе говорю: иди на филфак. Или, если не боишься жить далеко от дома, попробуй в Москву, в Ленинград. Правда, там на факультеты журналистики конкурс, говорят, человек по двадцать…
— А мы не договорили по стихотворению. Это её вариант?
— Ну да.
— Тогда недостатки: образ… ну… как бы подавляет тему. И вместо того, чтобы думать о старости, думаешь в конце стихотворения о непогоде.
— Пожалуй, так.
— Вы переделали?
— С-сейчас прочитаю.
По пятам за мною мчится
позёмкою, то змейкой,
снежным облаком клубится
неотступная злодейка.
В косы изморозью влезла,
всё лицо избороздила:
погляжу иной раз в зеркало —
я себя уже забыла.
Что за странные проделки!
Кто на мне срывает ярость?
Знаю, злая чародейка,
твоё имя: это — Старость.
— Как интересно, — сказала Катя задумчиво. — Вроде бы всё о том же, но это — стихи, то есть это — поэзия, а то, изначальное, до переделки, похоже на детское творчество, как у нас многие пишут стишки в тетрадках…
— Не знаю, не знаю, — глухо отозвался Дудинов, — поэзия ли это… Просто это лучше, чем в оригинале. Может быть, намного лучше. Но поэзия… Это очень капризная дама…
— Наверно, может быть только так, — с жаром сказала Катя, — или человек поэт, и тогда всё, что он пишет, всё, чего он касается взглядом, мыслью, становится поэзией, или — человек не поэт, и как бы он ни старался срифмовать что-то, у него всё равно получатся не стихи, а… просто ерунда.
Дудинов внимательно посмотрел на Катерину.
— Девочка, ты серьёзно ошибаешься, — сказал он. — Но в твоём возрасте это обычное дело. Нет чётких границ в подлинной жизни. Ни у чего. Даже у добра и зла. Тем более нет чётких границ в таких вопросах, как творческие. Нельзя говорить, что один человек талантлив, поэт, а другой — нет, не талантлив. Ну, а если оба талантливы, то что: оба равны?
— Да! Пусть они разные, таланты, но они должны быть равны!
— Кому они должны? — мягко спросил Дудинов. — Никому ничего талант не должен. И обычно людей, понимаешь, с-сравнивают. И говорят, что этот талантливей того. Это трудное сравнение, но оно естественно. Запомни ещё раз хорошенько: твёрдых границ нет!
Катя не нашлась, что ответить. А Дудинов, подумавши немного и поломав свои длинные пальцы, сказал вдруг:
— Поэзия… Есть, конечно, неоспоримые образцы. Вот, например, послушай такие стихи:
…Лодейников прислушался. Над садом
Шёл шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
хорёк пил птичий мозг из головы…
И страхом перекошенные лица
ночных существ глядели из травы.
— Это какие-то страшные стихи, — сказала Катя. — Неужели так надо трактовать образ природы?
— Ах, как ты заговорила! — восхитился Дудинов. — Трактовать, п-понимаешь, образ природы! Ой, бедные школьники, чему же вас учат…
— Как чему? Стихам, — сказала задетая Катя.
— Люблю грозу в начале мая?
— А что?
— Ничего. Это тоже хорошие стихи. Но вот послушай ещё:
…Так что есть красота?
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
или огонь, мерцающий в сосуде?
Впрочем, — прервал себя Дудинов, — это стихотворение надо читать полностью, иначе можно не понять его высокий — не боюсь, как видишь, высоких слов, когда им соответствуют стихи, — высокий его с-смысл.
— А это стихотворение я как раз знаю, — пожала плечиками Катерина. — «Некрасивая девочка» Заболоцкого. Мы проходили — на внеклассном чтении.
— А! — сказал Дудинов.
— И мне не очень.
Дудинов хмыкнул.
— А про ночных существ — это кто написал?
— А вот тот же Заболоцкий и написал. Представь себе.
В коридоре забегали.
— Катя! — орал Юрий Иванович. — Где тебя черти носят? Катерина!
— Спасибо, — вежливо сказала Катя Дудинову и выскользнула в коридор.
Оставшись один, Дудинов не спешил возвращаться к стихам, ждущим его правки. Он вдруг подумал о Кате какие-то странные думы, он представил себе, какой она будет, когда она вырастет в женщину, он подумал о том, что по редакции ползёт странный слушок, что Юрий Иванович в эту Катьку уже влюбился… в девчонку…
— Некрасивая девочка, — сказал себе Дудинов. — Некрасивая девочка…
< … >
…Сбегав в типографию, Катя вернулась, и Дудинову пришлось ещё раз демонстрировать ей суть редактуры-переделки, которой он продолжал заниматься в новом своём качестве редактора Ташлореченского отделения Ставрополького книжного издательства...
— Ну вот, — сказал Дудинов, — есть у нашего автора, вернее авторицы, такие ещё стихи. Одно называется «Женская доля».
Между мною и тобой
есть порог и есть черта.
Я не смею быть такой.
Ты всё тот, да я не та.
Ты посмеешь сделать шаг,
шаг большой через черту.
Я не смею сделать так —
примешь ты меня за ту…
Первый можешь ты сказать
«Я люблю», а я — нет, нет
Первый можешь в загс позвать —
я скажу, мол, в руки плеть!
Для тебя всё то и то,
можно, знаю, можно всё…
Первый шаг мой, что пальто
Бросить в грязь под колесо…
— По-моему, — сказала Катя, — стихотворение плохое и непонятное. Какое пальто она собирается бросить в грязь под колесо? И вообще: о чём она? О том, что нельзя с мужчиной до того, как он в загс позовёт? По-моему, так может рассуждать сейчас только какая-нибудь старая дура.
— Какая ты умная и, понимаешь, категоричная, — сказал Дудинов, любуясь Катенькой. — Но автор не обязательно дура. Так думали многие и многие девушки её поколения. И вообще, вы это проходить были должна: «Не отдавай поцелуя без любви!»
— Василий Владимирович, без любви — это одно. А тут — без загса… По-моему, это нечто другое, — важно заметила Катерина.
Дудинов захохотал и заявил:
— Чувствую, чувствую руку учителя! — чем страшно смутил Катю, но — абсолютно этого не заметил. Он имел в виду интеллектуальное руководство со стороны Юрия Ивановича и вообще всего секретариатского коллектива в целом, а Катя… Катя могла понять это замечание экс-газетчика слишком уж в прямом смысле. Однако она быстро поняла, что Дудинов вовсе не имел в виду её интимных отношений с Юрием Ивановичем, и смело продолжила анализ.
— Дайте текст, — попросила она. — На слух, да ещё с одного раза, не всё схватываешь…
— Какая ты молодец, Катенька, — снова похвалил курьершу Дудинов. — Вот сейчас ты абсолютно права. Восприятие с-стихотворения на слух и глазами может принести весьма отличные друг от друга результаты… Помню, мы выступали однажды перед заурядной с-сельской аудиторией… с заурядными стихами… — Тень какой-то неизжитой горечи легла на его лицо, и он тряхнул своей красивой, с седыми волнистыми кудрями головой. И ещё раз, приводя себя в чувство. — Да… Выступил Фатеев. Народ, соскучившийся в своих коровниках да с-свинарниках выносить навоз, понимаешь, всегда рад хоть небольшому отдыху, тем более — рад живому человеку со стороны. Аплодисменты… Фатеев читает ещё, ещё… Овации!
— Фатеев — это тот, который пишет фатические тексты? — перебила Катя, решив блеснуть знанием термина, не очень, впрочем, ей понятного.
Дудинов захохотал, да так, что слёзы выступили у него на глазах.
— Не знал, что тебе знакомы наши внутреннего употребления шутки, — сказал он, вытирая глаза платком. — Да, именно тот. Так мы его называем в отличие от однофамильца, который живёт в Ставрополе.
— А тот фатических текстов не пишет?
— Как знать… — ответствовал Дудинов. — Многие из нас с-склонны к этому. Но в основном писать и, главным образом, произносить фатические тексты — удел политических деятелей… Фатеев Геннадий Семёнович — большой человек, главный редактор Ставропольского книжного издательства, член эспэ, автор знаменитой строчки «Итальянские спагетти — из ипатовской муки!», прославившей его, понимаешь, навеки. А наш ташлореченский Сёма Фатеев — такой же, как и я, литературный неудачник, правда, выпустивший не одну, а целую кучу поэтических книжек в разных городах, но в союз так и не принятый…
Так вот, мы говорили о разнице устного и зрительного восприятия. Читал тогда Сёма стихи ужасные. Ну — очень плохие. Однако читал с надрывом, с чувством, умело нажимая, как говорится, на эмоциональную педаль и притушёвывая с-слабые строчки и образы… Я думал, он всё про себя понимает. Ну, ведь многие из нас, пишущих, всё сами про себя знают и понимают… Так нет же! С-сорвав последние, столь же горячие, как и вначале, аплодисменты, он наклонился, садясь, в мою сторону и — клянусь! — плача, сказал примерно так: «Ты видишь, Вася, как меня народ принимает! Как принимает! Что ж эти с-суки говорят, что я писать не умею?!»
— Он, наверное, сказал — не суки? — деликатно осведомилась Катя. — Наверное, выразился крепче?
Дудинов снова захохотал. Он был типичный сангвиник: легко переходящий от глубокой печали к непосредственной радости, и часто радость эту доставляли ему самые что ни на есть мелочи жизни…
— Катенька, — радостно сообщил он, — СУКИ — это не ругательство, а сокращённое наименование Ставропольского укрупнённого книжного издательства! Но ты права: очень, очень часто, говоря об издательстве, в его аббревиатуру вкладывают совсем иные чувства, чем заслуживает просто его название…
— А что значит укрупнённое? Оно что, крупнее всех?
— Нет, не крупнее. Но ему как бы велено руководить двумя своими филиалами: карачаево-черкесским, которое существует довольно давно, и вот теперь нашим маленьким ташлореченским. И оно руководит. Главным образом — финансово.
— Это уже неинтересно, — сказал Катя. — Давайте вернёмся к стихам.
— Ну давай, — охотно согласился Дудинов, хотя для него именно нюансы руководства представляли сейчас наибольший интерес: ему хотелось знать, в какой именно степени головное издательство будет мешать ему работать в новом качестве…
Катя прочитала текст стихотворения глазами и сделала следующие замечания:
— «Я не смею быть такой» — какой? «Ты всё тот, да я не та»: эта строчка подразумевает, что с героиней… ну… происходят какие-то перемены? О них в дальнейшем в стихотворении ничего не говорится. «Примешь ты меня за ту…» Это за какую же?
— Ну, здесь всё понятно, что именно хочет она сказать.
— Ну так бы и написала!
— Ишь ты какая! Нет, Катя, грубая устная речь — это одно, а литература… Недаром же и термин есть такой: литературный язык, в отличие от просторечного… Литература не всё может себе позволить. Бывает, достаточно намёка, и намёк срабатывает сильнее, чем прямое именование.
Катя демонстративно пожала плечиками, но возражать не стала и продолжила анализ.
— «Первый можешь в загс позвать» — я считаю, глупо. А вот следующую строчку: «Я скажу, мол, в руки плеть», я вообще не понимаю. Бессмысленно звучит: «Для тебя всё то и то»… Ну а уж про колесо и пальто я уже говорила. Ерунда какая-то. По-моему, плохое стихотворение. И нечего на него время переводить.
— Ещё раз скажу тебе, Катя: п-поступай на филфак. Но в оценке с-стихотворения ты всё-таки слишком категорична. Надо разделять две, даже три вещи: тему произведения, позицию автора и нес-совершенство, п-понимаешь, его художественной формы.
— Одно только усиливает другое!
— Катя, ну, стихи — действительно с-слабые. Даже не просто с-слабые — плохие. С этим я согласен. Но почему я свою оценку должен автоматически переносить на с-смысл с-стихов и п-позицию автора? Ведь сколько людей — столько и мнений о жизни… И, между прочим, иначе неинтересно было бы жить…
— Как это? Но ведь есть… ну… правильные точки зрения и ошибочные… В конце концов, существует же такая вещь, как мировоззрение…
— Да, Катенька. Существует. К сожалению. И к ещё большему сожалению — оно у нас самое передовое в мире. Но об этом мы с тобой поговорим как-нибудь в другой раз…
— Мне уйти? Вам некогда?
— Нет-нет! По стихам я с удовольствием закончил бы!
— Вы их переделали?
— А как же! Вот послушай. И заметь: я исправлял слабости, но не стремился выразить чужую тему собственными поэтическими средствами.
Между мною и тобою
есть порог и есть черта.
Я не смею быть иною,
ты открыт, я — заперта.
Ты посмеешь сделать шаг
(не впервой тебе гулять!)
Я не смею сделать так —
примешь ты меня за…
Но ведь первым ты сказать
можешь просто — о любви.
Можешь ведь и в загс позвать:
ожидаю — позови!
Ты спокоен и не нервен,
ты в любом поступке — князь…
Если б я шагнула первой,
это было бы — как в грязь…
— Как называется стихотворение? — вдруг спросила Катя.
— «Женская доля».
— Вот я против такой женской доли. Почему я не имею права на инициативу? Потому что я девушка, женщина? За меня всегда кто-то должен решать — тот, кто в брюках? Или тот, кто старше, как она?
— Катя, Катя… Ведь это позиция д-другого человека. Она её тебе не навязывает, а выс-сказывает. Вопрос: как это у неё получилось?
— Это не у неё получилось, Василий Владимирович, — сказала Катя, — а у вас. А она — дура. И по жизни, и стихов писать не умеет.
И, повернувшись, Катя вышла, ощутимо хлопнув дверью.
Ошеломлённый таким неожиданным концом разговора, Дудинов постоял немного с открытым ртом, потом помотал головой и рассмеялся.
— Ах, Катёнок, Катёнок… — вздохнул он, не замечая, что имечко, данное Катерине Юрием Ивановичем, уже привилось в редакции…
---
*Автор всех неправленных стихотворений, цитируемых Дудиновым, — Вера Пронзелевич.
Смерть, смерть и ещё раз смерть
< … >
 Юрий Иванович увидел Дудинова, и сердце у него болезненно сжалось: так он изменился; и выражение сильно распухшего лица было у него не такое, как бывает у больных, часами лежащих под капельницей (никакое, или как бы отрешённо-равнодушное); нет, на лице у Дудинова была — смертная тоска.
Юрий Иванович увидел Дудинова, и сердце у него болезненно сжалось: так он изменился; и выражение сильно распухшего лица было у него не такое, как бывает у больных, часами лежащих под капельницей (никакое, или как бы отрешённо-равнодушное); нет, на лице у Дудинова была — смертная тоска.
В следующий момент он увидел Юрия Ивановича.
— С-старик! Привет великим! Как я рад тебя видеть! — крикнул он, а получился громкий шёпот. — Садись рядом, а то я видишь какой лежу — и пошевелиться нельзя!
У него засветились глаза, он заулыбался, но не сделал ни малейшего движения. Игла торчала из вены, примерно половина флакона уже откапала, но в штативе торчали на очереди ещё два.
Юрий Иванович подсел к кровати.
— Болит, п-понимаешь, — пожаловался Дудинов и снова улыбнулся. — Ну, п-правда, и должно болеть… Ты знаешь, какой это у меня инфаркт?
— Хохлин говорит, что третий.
— Четвёртый, с-старик, четвёртый! — сообщил Дудинов. — Т-там уже рубец на рубце. Как я рад, что ты пришёл! — повторил он. — Четвёртый!
— Выкарабкивайся! — сказал Юрий Иванович. — Всё-таки здесь тебе не Ташлореченская больница, а ставропольская спецполиклиника. И лучшие врачи, и уход… Смотри, как ты устроился: в отдельной палате лежишь!
— Лучше я б лежал в общей, а не в этой… Это же палата с-смертников, понимаешь…
— Да ну что ты говоришь!
— А ты знаешь, сколько мне лет? — вдруг спросил Дудинов, и улыбка сползла в его лица.
Юрий Иванович слегка растерялся и задумался.
— Знаю. Ты лет на двенадцать постарше меня. До пенсии ещё вкалывать и вкалывать! — наконец бодро сказал наш герой.
— Юра… мне пятьдесят семь лет. Никто не знает, кроме жены! Тебе говорю п-первому.
— Как это? — растерялся Юрий Иванович.
— Вот так, с-старик. Семь лет… семь лет у меня из жизни отняли. И первый инфаркт у меня там был… Как выжил — не знаю. Жить, наверное, очень хотелось. С-стихи писать, п-понимаешь…
— Где — там? — глупо спросил Юрий Иванович. Он не понял Дудинова.
— С-старик… тебе сколько, тридцать семь? Ты с-счастливый человек, п-понимаешь… но с-сам не знаешь этого.
«В тюрьме он сидел, что ли?» — мелькнуло в голове у нашего героя. Он почти угадал.
— Тебе п-первому… Может, ты только и ус-слышишь… Семь лет лагерей, с-старичок. П-потом удалось документы исправить… Не спрашивай, как… Вот и возраст поэтому у меня не тот.
— За что? — вырвалось у Юрия Ивановича.
— А ни за что! — с силой, хотя и всё тем же шёпотом сказал Дудинов. — В двадцать лет… Ни за что! Ты не можешь с-себе даже п-представить, что такое для нас был Двадцатый съезд… И после этого, после этого — дожить до такого м-маразма…
< … >
— С-старик, а если я вдруг помру… то ведь, с-старик, хоть о п-памятнике не надо будет б-беспокоиться, — вымученно пошутил Дудинов перед прощанием с Юрием Ивановичем. — Табличку только с-сменить не забудьте, нет, лучше с-с обратной с-стороны, п-понимаешь… Чтобы уж навечно, не с-снесут… И ещё, п-помнишь, с-стих м-мною с-сделанный — п-под Баркова? Ув-важь с-старика — укреп-пи… т-тоже, с-с обратной с-стороны т-того с-самого п-памятника…
Он имел в виду памятник основателю Ставрополя полководцу Суворову, установленный на Комсомольской горке, неподалёку от железобетонной палатки (с железобетонным же барабаном внутри), призванной символизировать суровый военный быт строителей Ставропольской крепости — важнейшего форпоста на Кавказской линии. Бюст Суворова, тёсанный из серого гранита, появился в городе к двухсотлетию со дня основания, и был выполнен, не в пример другим городским скульптурам и памятникам, свежо, современно и, пожалуй, талантливо. Но более всего в этом памятнике поражало то обстоятельство, что сходство каменного Александра Васильевича Суворова и живого Василия Владимировича Дудинова было абсолютным: как будто с него тесали! Тот же нос, глаза, подбородок и скулы, а самое главное — такая же шевелюра, только у Дудинова она была не каменная, а седая…
< … >
…Юрий Иванович сделал всё, о чём его просил Дудинов. Табличку заказал: фамилия, имя, отчество, годы жизни. А знакомый гравёр витиевато нарезал барковско-дудиновские строки. Ночью Ю.И. вместе с Фанасюком привинтил оба медных изделия на здоровенные болты, предварительно — по задумке — они штуковины эти на хороший раствор цемента присадили…
Два дня менты, матерясь и недоумевая, отдирали таблички сии от тыльной стороны памятника прославленному полководцу. А гэбисты с полгода шерстили Ставрополь, но до Ташлореченска добраться не сообразили… Так и осталась вечной загадкой в истории города эта последняя шутка поэта…
Иллюстрации:
подлинная фотография Владимира Кудинова;
писатель Евгений Панаско;
ВВК в форме генералиссимуса
(компьютерная графика Татьяны Литвиновой);
бюст Александра Суворова;
памятник Александру Суворову в Ставрополе.
Творчество
Подборки стихотворений
- Спасибо тебе – и прощай… № 25 (85) 1 сентября 2008 года
Комментарии
-
Федор Пилюгин Владимиру Кудинову 12 апреля 2011 года
В моих архивах сохранилась фотография 74 года. Из всех журналистов "Ставрополки" особой душевностью отличался В. Кудинов. Сейчас продолжаю с ним знакомство... 2011г -
Елизавета Владимиру Кудинову 10 сентября 2008 года
Cтихи Владимира Кудинова волнуют и надолго запоминаются, в них угадывается человек очень добрый, внимательный, понимающий цену истинного слова.
В прозе Евгения Панаско много лёгкости, остроумия, но и мудрого, согревающего взгляда на всю нашу жизнь.
Как жаль, что этих людей уже нет с нами...
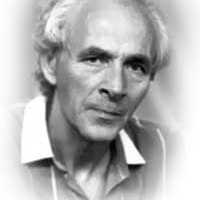
Добавить комментарий