Предисловие от автора
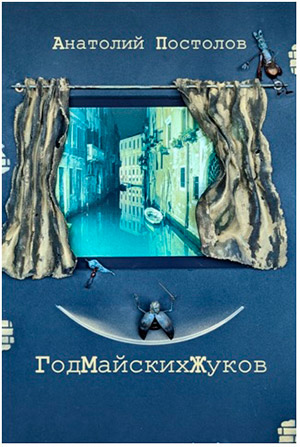 Много лет назад в середине 50-х годов прошлого века, в один из ненастных осенних дней я спустился с мамой в полуподвал старого, просевшего от времени, дома. В полуподвале жил дворник. Дворник собирал и продавал марки.
Много лет назад в середине 50-х годов прошлого века, в один из ненастных осенних дней я спустился с мамой в полуподвал старого, просевшего от времени, дома. В полуподвале жил дворник. Дворник собирал и продавал марки.
Не знаю, что его кормило на самом деле – берёзовая метла или филателия. Да это и не важно. Важны детали воспоминания. Помнится, в той же комнате женщина стирала в цинковой бадье бельё, в люльке плакал ребёнок, и у меня сразу запотели очки от влажной духоты, висевшей в дворницкой. Сам дворник подошёл к большому кованому сундуку и открыл его. Сундук был заполнен кляссерами, напоминающими толстые бухгалтерские книги. Он достал один такой гроссбух, положил передо мной и раскрыл. И мир поменялся, стены дворницкой распались, как карточный домик, и перед глазами открылся мир африканских колоний, пёстрая фауна Мадагаскара, хищная красота прерий…
Спустя много лет этот крохотный эпизод всплыл перед глазами, и от него потянулась цепочка, сотканная из метафор, ассоциаций и фантазий, составивших главы романа «Год майских жуков».
Известное латинское изречение «Пока дышу – надеюсь» в сегодняшней реальности потеряло свой романтический ореол. Мне слышится в этих словах покорность перед ударами судьбы. Особенно сейчас, когда мы поневоле привыкаем к замкнутому пространству, дышим, чтобы только выжить, а романтическая нота надежды всё чаще звучит в прагматическом ключе. Может быть, поэтому мне захотелось перефразировать старый афоризм: вместо «Dum spiro spero» – «Dum memoro spero». Пока помню – надеюсь.
Именно об этом – о памяти и забвении роман «Год майских жуков».
Анатолий Постолов
Польское танго
Фрагмент книги первой
Они подошли к дворницкой в половине седьмого. Сумерки густели, очерчивая неровными пятнами вздутую штукатурку стен, затушёвывая балконные решётки и проёмы окон, в глубине которых мерцали тусклые лампочки коммуналок... Лишь одно угловое окно на третьем этаже ещё цеплялось за оранжевый отблеск заката, но и оно на глазах догорело, и сразу из арочного прохода подул свежий вечерний бриз. Мама, выходя из дому, накинула на плечи лёгкую кашемировую шаль. Дверь в дворницкую была чуть приоткрыта, полоска света казалась тонкой свечой, с ровно тлеющим фитильком.
Они для приличия постучались, и Марик толкнул дверь. Алехо лежал на своём коце и даже не вскочил при виде гостей, только потянулся и тяжело вздохнул.
– Миха? – Громко позвал Марик, но никто не отозвался. Они с мамой переглянулись и в недоумении пожали плечами.
– Мам, альбом лежит на столе, я пока начну смотреть...
– А где же сам хозяин? – оглядываясь и рассматривая обстановку, спросила мама.
В это время послышался характерный шум сливаемой воды, и несколько секунд спустя, из-за занавески, не отодвигая её, выскользнул Миха. Он подошёл к умывальнику, сполоснул руки и снял с крючка сияющее белизной вафельное полотенце. На нём была всё та же сатиновая рубашка, заправленная в тёмно-синие брюки, а на ногах вязаные носки. И всё же перед Мариком стоял другой человек. Миха был гладко выбрит, куда-то исчезли его сутулость и хромота, и сама его внешность поразительным образом изменилась. В глазах Марика, чьё киношное мышление напоминало о себе при каждом удобном случае, Миха неожиданно стал похож на Жана Маре в роли графа Монте-Кристо. Мама, пожалуй, была поражена не меньше, поскольку дворника она никогда не рассматривала; в памяти сидел образ сутулого старика, который редко поднимал голову, если кто-то проходил мимо. Его изуродованная рука всегда бросалась в глаза, поскольку ею он держал верхний конец черенка, когда подметал улицу. Мама в таких случаях рассеянно отводила глаза, боясь встретить взгляд трёхпалого, а тем более заговорить с ним. Так и получилось, что у дворника было имя, прозвище, униформа, но не было лица.
Немая сцена в дворницкой продолжалась недолго. Миха не дал ни Марику, ни маме времени на размышления о неожиданностях метаморфоз. Он небрежным движением бросил полотенце на сундук, стоявший сбоку, и, улыбнувшись, заговорил:
– Проходьте, будь ласка. I пробачте. Я щось замислився у своїй будцi. Тож сiдайте.
Марик, растерявший всю свою храбрость перед новым обликом Михи, спохватился и с некоторой обидой за себя и за маму, которая тоже выглядела слегка растерянно, сказал:
– Миха, это моя мама. Мама, это Миха.
Он замолчал. Дворник тоже молчал, но затем почему-то сделал шаг к сундуку, взял полотенце и набросил на согнутую в локте руку, как делают официанты в ресторанах.
– Оце-таки честь улицезреть таких персон ув моей конуре, – сказал он на каком-то нелепом суржике. После чего, не дав гостям передышки, сделал шутовской поклон, и, показывая на Алехо, продекламировал:
– А це на килимi мiй собака. Його звуть Алєхандро. Гішпаньского пiдданства. Такий собі лицар сумного образу... Так ви сідайте. У ноженьках правди нема. Хто це сказав? Сковорода чи Суворов. Хтось із великих. Але добре сказано. Прошу...
– Миха! – Рассердился Марик, не понимая смысла в этой клоунаде и видя растерянность в маминых глазах. Он сердито шагнул к столу, со скрипом отодвинул стул и сел, уставясь в открытый кляссер. Он не понимал, что с Михой происходит.
– Прошу вас, садитесь, ФаинГригорьевна, – неожиданно бархатистым баритоном произнёс Миха, отодвигая стул, и пока мама садилась, он подмигнул Марику, у которого горели уши и появились красные пятна на скулах.
– Я актёрствую как бы по нужде. Посещая укромный уголок, я меняю свой облик, а потом бывает трудно из него выйти или наоборот войти.
Он сделал паузу. И с неожиданной грустью посмотрел на маму.
– Приличный гостевой стул у меня один. Марку достался не очень устойчивый, но для его весовой категории вполне надёжный. Вам удобно сидеть ФаинГригорьевна?
– Пожалуйста, называйте меня по имени, к чему эта официальность. Я ведь не собираюсь вас называть по отчеству, тем более что я его не знаю.
Мама произнесла эту тираду негромко, но явно подчёркивая дистанцию между ними и не скрывая отчуждения в голосе. Марик, слегка пришибленный таким началом долгожданного события, совсем приуныл.
– Давай сынок, у нас не так много времени, выбери марки, и мы пойдём...
– Ну, что вы... Прошу вас, не торопитесь. – Миха откашлялся. – Марки требуют обстоятельности, это же погружение в иную реальность, праздник души... Сию секунду, Марк, я дам вам пинцет и лупу.
– Пинцет я уже держу, – сердито отрезал Марик.
– Да-да, конечно, простите мою неуклюжесть. Ко мне редко заходят гости. – Он пятернёй два раза взрыхлил ёжик волос и бросил рассеянный взгляд в пространство. – А лупы у меня, собственно, нет. Была, но я её зачем-то променял на вон тот ключик. – И он качнул головой в сторону стены, на которой висел фигурный ключ непонятного назначения.
У мамы явно портилось настроение. Марик видел, как её мимика меняется на глазах. Она чуть покусывала верхнюю губу, морщила носик, но при этом пару раз успела бросить на Миху удивлённый взгляд, в котором причудливым образом раздражение соперничало с любопытством.
Миха снял с руки полотенце, аккуратно его сложил и также аккуратно положил на сундук. Он помедлил, глядя то на Марика, то на маму, словно раздумывал, какой новой неожиданностью заполнить паузу.
– Я хотел бы угостить вас чаем, это особенный...
– Нет-нет. Я не пью чай! – Довольно резко сказала мама, но увидела его огорчённое лицо с печальными глазами, поняла, что немножко перегнула, выплеснув на дворника своё раздражение. И она сказала уже помягче:
– Мы ведь ненадолго. Не затрудняйте себя.
– Фаина, – вдруг произнёс Миха, и её имя прозвучало с такой неуловимой нежностью и напевностью, что мама чуть приоткрыла рот от удивления. А Миха сложил лодочкой ладони, чем-то сразу напомнив святого аскета с картин Эль Греко, и заговорил без всякого актёрства, тихим, убеждающим голосом:
– Вы такого чая никогда больше не попробуете. Это уникальный чай. И есть ещё нечто, что придаст ему смутное ощущение утраченного времени... У меня от одного старого сервиза сохранились великолепная чашка и блюдце. Поверьте мне, вы не пожалеете.
Марик немножко оживился, радуясь, что Миха вошёл в свою нормальную роль, и энергично закивал головой:
– Мам, ты должна обязательно попробовать.
Миха положил руку на грудь и поддакнул Марику:
– Попробуйте, пани Фанни...
Мама сделала большие глаза, Марик расхохотался. Миха, не зная, как исправить свой ляпсус, выдавил кривую улыбку, опять нелепо развёл руками и пробормотал:
– Ну вот, хотел к вам обратиться по-французски, а получилось...
Марик увидел, что у мамы в глазах прыгают чёртики, и она очень хочет засмеяться. И в то же время её сдерживает дистанция, их разделяющая, которую только смехом можно как-то сократить, а мама сама не знает, хочет она сокращать эту дистанцию или нет. Наконец, она нашла подходящую интонацию, чтобы выйти из неловкой ситуации, и сказала голосом капризной барыньки, но при этом дружелюбно улыбнувшись:
– Так я жду. Где ваша сервизная чашка?
– Сейчас я поставлю чайник на огонь и приготовлю всё необходимое.
Мама, наклонившись к Марику, тихо спросила: «Это ты мои секреты выдаёшь? Откуда он знает про Фанни?»
– Мама, я нечаянно, честное слово, вырвалось в разговоре. Он хотел сказать по-польски: «Целуем ручки, пани Фаина», и перепутал.
– Эту «пани Фанни» я ему припомню, – полунасмешливо шепнула мама, но в глазах её промелькнула растерянная тень смущения. Увидев, что Миха ставит на огонь чайник и суетится в поисках неизвестно чего, она спросила:
– Может быть, вам нужна помощь?
– Спасибо, мадам, я прекрасно справляюсь, отдыхайте.
– Ну вот, я уже мадам. – Мама усмехнулась. – Не знаю, это вы меня повышаете в ранге или наоборот?
– Я всего лишь пытаюсь завоевать ваше доверие.
– Зачем оно вам?
– У меня в этом мире статус неприкасаемого, что, с одной стороны, не так уж и плохо, но иногда тягостно. Боясь поскользнуться, я не тянусь к людям... С Марком мы познакомились благодаря цепочке случайностей...
– Миха, а вот эту серию с рыбами я могу отложить? – вмешался мальчик, у которого глаза разбегались при виде цветного великолепия заморских марок.
– Разумеется. Выбирайте всё что хотите, кроме тех, что на первых трёх страницах... Извините Фаина...
– Меня просто немного задели ваши игры с моим именем, хотя я понимаю, что это обыкновенная шутка. Но зачем вы подчёркиваете свой статус. Мне важно, какой вы человек, а профессия или статус – это в данной ситуации не играет роли. Вы же, вероятно, в юности не собирались дворы подметать. Я смотрю на ваши руки, у вас пальцы пианиста, хирурга, может быть...
– Вы почти угадали, я мечтал о врачебной карьере, но не получилось. Трёхпалые хирурги не в цене.
– Это война? – Осторожно спросила мама.
– Да. Взрывная волна, контузия и утешающий прогноз врачей, мол, повезло тебе, брат, могло всю руку оторвать, а так только два пальца. Так что с мечтой пришлось расстаться.
– Я вот портниха – не очень престижная профессия, но надо зарабатывать на хлеб... А мечтала стать балериной. Не получилось…
– Мама, это правда? Ты никогда не говорила, – рассеянно произнёс Марик, чьё внимание было поглощено маркой, на которой белая акула, хищно изогнув своё тело и напрягая плавники, чуть приоткрыла пасть, почувствовав запах крови.
– ...Что, наверное, к лучшему, – сказала она, отвечая не Марику, а скорее своим мыслям. – Думаю, дальше кордебалета я бы не пошла, а у них очень часто изломанные судьбы, у этих девочек. У меня была клиентка, бывшая балерина, ещё относительно молодая, меньше пятидесяти, а за плечами уже три развода, несколько абортов и бесплодие, как результат...
– Да, горько и обидно, – произнёс Миха. – Пожалуй, в искусстве нет более трудной профессии. Трудной и трагичной... Но в нашем лживом обществе при слове балерина у мужчин начинается слюноотделение. Нувориши любят заводить любовниц в балетном мире. Ну, а истории по поводу увлечений «всесоюзного старосты» и Берии вы, вероятно, слышали... Во всём этом есть что-то постыдное... Крепостной театрик, где эти талантливые девочки гнули на пуантах свои пальчики, чтобы потом служить прихотям всяких ничтожеств... Да и сегодня, много ли изменилось?
Мама бросила на Миху задумчивый взгляд, в котором скользнуло понимание и признательность. Но настороженность всё же оставалась, и, желая сменить тему, она сказала:
– Ну что ж, давайте попробую ваш грузинский чай.
– Мам, посмотри какая классная серия. Это птица тукан. А вот треугольная марка, как интересно...
– Французская Гвиана, – подсказал Миха, ставя на стол термос и круглую жестяную коробку от печенья. – У них туканы чуть ли не на каждом дереве растут.
– Поют, – поправил Марик.
– Я бы не назвал это пением. Они крякают, судя по рассказам путешественников, хотя в их царстве это, возможно, верх красноречия.
– Миха, а что это за марка? – спросил Марик, добыв пинцетом небольшую гашёную марку без зубцов.
– У вашего сына хороший вкус, – усмехнулся Миха. – Это довольно редкая марка, французская почтовая...
– А кто на ней изображён?
– Наверное, Марианна, – рассеянно произнёс Миха и обратился к маме. – Вам добавить заварки?
– Нет-нет, спасибо, нам уже скоро надо будет уходить. Марик, папа через полчаса придет.
– Так я могу эту редкую марку отложить? – спросил Марик.
– Разумеется. Я, впрочем, и себя и вас ввёл в заблуждение. Это не французская Марианна, а Церера, древнеримская богиня плодородия и материнства, покровительница дворников.
– Правда? – удивился Марик.
– А почему бы нет? Простолюдины ей поклонялись больше всех других богов. В старые времена её называли богиней плебса. В засушливое лето у кого землепашец будет просить дождя и хорошего урожая? Не у какой-нибудь там расфуфыренной Венеры, а у такой вот деревенской богини.
– Марик, нам пора, – ещё раз напомнила мама. – Там бабушка уже заждалась...
– Кстати, Тане, маме вашей, передайте от меня поклон. Я её редко вижу в последнее время.
– Да, она мало выходит. Болят ноги...
– Жаль, Григорий Моисеич рано ушёл...
Он замолчал, и в комнате наступила напряжённая тишина. Только ходики стали слышны особенно явно, и Марику показалось, что они вдруг замедлили ход. Мама сидела необыкновенно бледная, закусив нижнюю губу, а Миха, опустив голову, чему-то улыбнулся и даже невнятно замурлыкал, процеживая через хоаны какую-то старую мелодию.
– Я ведь с вашим папой встречался месяца за полтора-два до его смерти. Здесь, в этой конуре. Он всегда при встрече здоровался со мной и любил переброситься парой слов по-польски. И под мышкой у него нередко была польская газета, обычно «Жиче Варшавы».
«Jak się masz, panie kierownik», – так он часто меня приветствовал, и мы с ним смеялись. А в тот день...
Миха поднял голову и увидел мамино лицо.
– Извините, я, наверное, опять допустил бестактность...
– Рассказывайте, – чужим голосом сказала мама, глядя на него широко открытыми глазами.
– Он мне поведал в тот день необычную историю из своей жизни. Он был молодым, жил в Ровно и ходил в местный ресторан слушать одну певичку, в которую страшно влюбился. Как он мне сказал – смертельно. Он упомянул её имя, но я сейчас не вспомню, кажется, Хелена. Она пела со сцены разные модные танго и фокстроты того времени. И он каждый вечер приходил её послушать. Но однажды, когда она была на сцене, пьяный польский офицер крикнул ей что-то оскорбительное. Тогда ваш папа бросился к нему и потребовал извиниться. Офицер вытащил пистолет и сказал: «... но сначала я тебе прострелю голову, еврей». И он бы это сделал, но тут какой-то находчивый приятель вашего отца дёрнул рубильник, и свет во всём зале погас. Началась суматоха, ваш папа скрылся, но, увы, он уже не мог больше появляться в этом месте. Любовь и впрямь чуть не стала смертельной.
– Какой классный сюжет для рассказа или даже романа! – восхищённо произнёс Марик.
– О да, но это ещё не конец истории. На следующий же день офицера разжаловали, буквально сорвали с него погоны... Но не за то, что он устроил скандал и грозился убить человека. Его разжаловали потому, что по законам офицерской чести – если оружие извлечено из кобуры, оно должно выстрелить. Это был их кодекс. Спесивый кодекс вояк. Вот с такой концовкой рассказ станет по-настоящему увлекательным.
А само танго… не знаю, как оно называется, но вы, Фаина, наверняка его слышали, он ведь часто пел, когда у вас собирались гости. Даже я иногда слышал его голос, особенно летом при открытых окнах... Я хорошо помню, как он сидел в этой комнатушке и рассказывал свою историю, а потом вдруг начал петь старое танго из репертуара певички кабаре. Это было так неожиданно и безумно трогательно. И, кажется, совсем недавно...
И вдруг Миха запел. Он пел мягким баритоном, с придыханием, видимо, немного волнуясь, и голос его чуть вибрировал:
Mój kochanek to bandyta, pijak, gracz.
Ani uśmiech, ni płacz,
Ani wdzięk moich licnie obchodzi go nic.
Мой любимый - бандит, пьяница, игрок.
Ни моя улыбка, ни слезы,
Ни моя мольба -
Ничто его не трогает.
– Миха, я и не знал, что вы умеете петь! Вот здорово! – Марик смотрел на дворника, как на только что сделанное открытие, но мама сидела на краешке стула, напряжённо выгнув спину, готовая сорваться с места. Она молчала, и только глаза её были подёрнуты поволокой, будто облаком, которое медленно таяло, пока не исчезло совсем...
– Сколько мы вам должны за марки? – Голос её дрожал.
– Мама, ну ещё пять минут, – попросил Марик.
– Нам пора идти... Сколько?
Миха поднялся из-за стола.
– Вы мне ничего не должны. Я дарю эти марки.
– Нет, не может быть и речи. – Она вытащила десятку из кармана. – Если вы не возьмете деньги, мы не возьмём марки.
– Мама! Миха же мне эти марки хочет подарить, почему ты такая упрямая?
Мама молчала и теребила пальцами свою шаль.
Миха, похоже, растерялся. У него опять несколько раз дёрнулась щека. Он нервным движением взъерошил волосы.
– Я возьму с вас по пять копеек за марку, – сказал он, глядя маме в глаза с какой-то детской обидой.
– Сколько там марок, сынок?
– Восемнадцать, – тихо ответил Марик.
– Восемнадцать, – повторила мама и закусила губу.
– Так как у меня нет сдачи, то вы мне будете должны 90 копеек. Я дам вам сейчас конвертик, положите туда марки.
Они вышли из дворницкой. Мама пошла вперёд быстрым шагом, держась за шаль побелевшими от напряжения костяшками пальцев. Марик открыл дверь, и они вошли в квартиру.
– Мама, ты какая-то нетерпеливая. Я же тебе говорил, что он в марках плохо разбирается, но он когда-то был путешественником, ей богу. Мам, пять копеек за марку. Я мог ещё штук тридцать набрать.
– Марик, папа скоро придёт, у него сегодня частный урок; наверное, уже закончился, он будет минут через двадцать. Я пока подогрею голубцы и хочу тебя о чём-то попросить: принеси из комнаты букет...
Марик вернулся с вазой. Сирень к вечеру расщедрилась, раскрыла свои лепестки, и её махровые гроздья напоминали усыпанное звёздами ночное небо.
– Там бабушка в кресле перед телевизором заснула.
– Ничего, я её разбужу. Садись, мой мальчик. И не сердись на меня. Я сама на себя сердита. Как я могла забыть эту дату. Скажи мне, как? Вчера исполнилось ровно четыре года со дня смерти папы. Моего папы, понимаешь? И я за неделю до этого каждый день напоминала себе поставить свечку, помянуть папу... делала зарубки в дурной голове. Ох, будь прокляты эти праздники с их суматохой…
Как же мне стыдно, Марочка. Я напрочь забыла, а какой-то дворник мне напоминает. И напоминает так, будто знает, что я эту боль буду нести одна, и ни с кем не поделюсь. Ни с кем, кроме тебя. Мальчик мой, почему папа мне никогда эту историю не рассказывал? Почему ему рассказал?
– Мам, ну не расстраивай себя так. Хочешь, я тебя сейчас утешу стихами Светлова. Вот слушай, – Марик сделал артистичный жест рукой и, слегка подвывая, прочёл, – «Все ювелирные магазины – они твои, все дни рожденья, все именины – они твои… вся горечь жизни и все страданья – они мои».
– Ах, сынок, звучит оно красиво, но фальшиво, а строчки из этого танго – они мне царапают сердце... «Мой любимый – бандит, пьяница, игрок...»
Она закрыла лицо руками и чуть слышно произнесла: «А я его всё равно люблю...»
Плечи её вздрогнули, и вся она сжалась, словно хотела спрятать под шалью, как под панцирем, свои обнажённые чувства.
– Мам, ну не плачь, – тихо сказал Марик и прикоснулся к её руке.
Мама медленно опустила ладони мокрые от слёз.
– Мама, ты такая красивая...
– Да, особенно сейчас, – она попробовала улыбнуться. – Иди сынок, иди, позанимайся немного, а я посижу. И сам разбуди бабушку, ей спать сидя тоже не очень на пользу. И ещё... Только не обманывай меня. Это его букет?
Марик молчал. Он не понимал, как она могла догадаться. Он ведь всё разыграл, как по нотам...
– Мам, это для тебя и для бабушки. Он просил не говорить...
– Когда мы уходили, я увидела в его мусорном ведре сломанную ветку сирени... Так что вы оба те ещё конспираторы. А Миха... Какое, однако, странное и в то же время детское имя... Ты ведь понимаешь – он по своей сути не дворник. Он умный тонкий человек с израненной душой и щедрым сердцем. Я рада, что он стал твоим другом.
– Мам, он твой друг тоже.
– Нет, милый, ты можешь к нему ходить в любое время, я туда никогда больше не приду.
Марик встал, но, уходя, остановился на пороге кухни и ещё раз посмотрел на маму. Её руки, исколотые шитьём, прежде времени покрытые морщинами, лежали, будто две мёртвых птицы. Но вдруг одна из них ожила, потянулась к веткам сирени и прикоснулась к ним с неизъяснимой нежностью.
© Анатолий Постолов, 2022.
© 45-я параллель, 2022.
