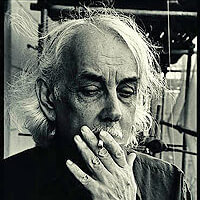Кроме стихов, он любил цветы.
Стефан Малларме
 Человек сидит у расщелины и ждёт. Проходит день, месяц, год. Солнце нещадно палит, но ему негде укрыться. Налетает шквал, а вместе с ним страшный ливень – ему некуда спрятаться. Он боится оторвать взгляд от расщелины. В ней все его надежды, весь смысл его существования.
Человек сидит у расщелины и ждёт. Проходит день, месяц, год. Солнце нещадно палит, но ему негде укрыться. Налетает шквал, а вместе с ним страшный ливень – ему некуда спрятаться. Он боится оторвать взгляд от расщелины. В ней все его надежды, весь смысл его существования.
Расщелина в нём самом. Оттуда щедро приходят драгоценные прозрения. Приходят не ко всем – только к очень немногим. От человека ничего не зависит. Он не может их вымолить, выманить, выкурить. Но он может их получить и оформить.
Оракулов мало. От силы их может быть два или три. Остальные люди ждать не могут. Они должны жить в соответствии с уже полученными откровениями. Живут ли они в соответствии с ними или нет – это их собственная забота.
У людей много забот. Нужно накормить тело и душу. Нужно позаботиться о ближних. Нужно занять место среди других. Нужно дружить со стихиями. И наконец, нужно сказать твердое «да» или «нет» в ответ на вызовы судьбы. В старых откровениях нет готовых ответов. Жизнь полна сомнений, которые преодолеть невозможно. Нужен уникальный ответ.
С того дня, когда у мальчика Эрнеста прорезались первые стихи, прошло 40 лет. Позже он начал замечать, что стихи то идут, то не идут. А когда они идут, то – широким потоком или узенькой струйкой. Раньше поток был мощным, выходили уверенные формы, и их шлифовка не требовала усилий. Позже плодоносные полосы сменялись бесплодными, и – обратно. Когда стихи не шли, Эрнест тосковал, пил, ругался с друзьями. А потом снова на него находило, и он забывал всё на свете.
Высокий, немного сутулый, с нескладной фигурой брюнет. Польско-иудейская родословная. Нью-эйджевские настроения и идеи, со временем слегка потускневшие. Никаких восторгов перед науками, философиями, здравым смыслом и жизненным опытом. Нервический блеск в глазах, выдающий напряжённую жизнь души, пульсирующую мысль и страх не состояться, остаться за бортом жизни.
Впервые он подумал о жертве, когда однажды жёг за городом костер. Он понял, для чего жрецы жгли костры и пили сому. Он понял смысл человеческих и животных жертвоприношений и особенно смысл бескровной жертвы. Поправляя хворост в костре, Эрнест спрашивал себя, что бы он мог попросить у могущественных богов, если бы заслужил их внимание. Его не удручал «закат Европы», и он не сочувствовал ордам, захлёстывающим Запад. Его вообще мало интересовали социальные передряги. Но ему мучительно хотелось увидеть весну человечества, обнадёженность и причастность к поднимающейся струе смысла… Ну хорошо, может быть, не пережить самому, хотя бы знать, что ты её спровоцировал, подтолкнул…
Конечно же, от него мало что зависело. В личной жизни он, разумеется, делал всё возможное. Нашёл службу, женился, потом развёлся и снова женился. Друзья собирались и обсуждали, как быть поэтами, когда нельзя быть поэтами. Встречался с тремя друзьями – не больше. Написанные стихи выверял на друге Кирилле. Тот слушал, не отрываясь от холста, – писал огромные световые круги, похожие на шаровые молнии. Готов был убить за неверное слово, фальшивую интонацию. Кирилл швырял в приятеля молнии, гнал назад к расщелине, требовал преодолеть себя, взлететь над собою. И тот бежал и, прибегая, орошал расщелину слезами, и строил перед ней алтарь, и выплясывал перед алтарём отчаянные танцы. И рождались строки, ниспадали каденции, канон перемежался антифоном, ритм взвивался и замирал. Кроме стихов, он любил цветы: ирисы, пионы, каллы, орхидеи…
А между тем на дворе царили вечные сумерки, кружил снег, ветер приносил вирусные миазмы, а с ними – тоску и безнадёжность. Социум становился всё агрессивнее. А жена предостерегала: будь внимателен, будь настороже. И он был осторожен, насколько умел. Однако тучи вокруг становились темнее. А главное: стихи перестали идти, расщелина зарастала, и ни одного звука не доносилось из неё, сколько он ни ждал, ни молил.
Эрнест устроил из своей жизни монастырь и создал для себя жёсткий устав. Утром – на службу, вечером – домой. На службе вёл бои с рассеянием мыслей и воображением. Срывался, каялся, плакал. Стихи не шли, а всё, что он записывал ночью и днём, – всё выбрасывалось и рвалось им с желчным отчаянием. Эрнест погружался в цинический скепсис. Он снова пил, ссорился, нарывался на скандалы. Он долго не верил, что стихотворная благость иссякла, и помощи больше не будет. Что он навсегда остался один перед молчащей расщелиной.
Однажды Эрнест проснулся посреди ночи, как от толчка. Прошлое нахлынуло на него с надеждами и страхами, и вместе вернулись терзания и обращённые на себя упрёки. Он жил безобразно, бессмысленно, он заточил себя в тюрьму, он пропустил, прошляпил свою жизнь, он не сумел ничего стоящего сделать. Как за спасительную соломинку, хватался он за свои стихи, но соломинка тонула вместе с грузом горечи и недовольства. Нет, он не поэт, у него нет сильного уверенного голоса, только задушенный шёпот загнанного зверька. В результате у него не было ни жизни, ни стихов. В отчаянии он обращался к своему детству, пытаясь отыскать в зыбких воспоминаниях живые мгновения, подлинные переживания, пусть даже горе или отчаяние, но нет, и в детстве он не находил ничего, что бы утешило его и оправдало. Его неудержимо несло в потоке дурного времени, губящем всё на своём пути. И впервые он увидел себя частью чего-то большого, что жило и пульсировало в нём все эти годы.
 Что может остановить поток одичавшей реальности? Что-то, что потрясёт людей, выведет их из летаргии и покорности, но не для новой кровавой феерии, а для холодной оглядки на себя и на неумолимость приближающейся катастрофы. И чем больше он об этом думал, тем яснее понимал, что только уникальная жертва способна обуздать взбесившуюся реальность. Жертва, подобная жертве Иисуса, которая легла под ноги двухтысячелетней истории Запада, преобразила мир римских аристократов и рабов в цивилизацию рыцарей, крестьян и просвещённых монахов.
Что может остановить поток одичавшей реальности? Что-то, что потрясёт людей, выведет их из летаргии и покорности, но не для новой кровавой феерии, а для холодной оглядки на себя и на неумолимость приближающейся катастрофы. И чем больше он об этом думал, тем яснее понимал, что только уникальная жертва способна обуздать взбесившуюся реальность. Жертва, подобная жертве Иисуса, которая легла под ноги двухтысячелетней истории Запада, преобразила мир римских аристократов и рабов в цивилизацию рыцарей, крестьян и просвещённых монахов.
Он вспомнил о жертве Будды, который в одном из прежних перерождений отдал свое тело на съедение голодной тигрице, спасая её от пожирания собственных детёнышей, и о другой жертве Будды, когда, будучи рожденным в форме слона, он бросился со скалы, чтобы накормить своим телом семьсот измученных путников.
Эрнест знал: жертва – это та же плата по принципу: отдаю, чтобы получить. По замыслу жертвователя, получателем плодов может быть не только он сам, но и кто-нибудь другой или что-нибудь другое: человек, город, страна, человечество, любое живое существо, реальный или воображаемый объект. Человек жертвует одним ради другого. Жертвуют во имя будущего. Жертвуют ради любви – богатством, талантом, здоровьем, жизнью. Жертвуют ради душевного подъёма, взлета, экстаза, вдохновения. Кладовая жертвы неисчерпаема и открыта для всех. Но и здесь существует конкуренция, соперничество, зависть. Каин позавидовал Авелю за то, что жертва последнего была принята, а его жертва отвергнута.
Да, жертва может быть бесполезной, бессмысленной, нелепой. Как не выстрелившее ружье, не взошедший посев, не рождённый ребенок. Жертва должна выстрелить, прорасти, дать плод. По крайней мере, она должна быть завораживающей, яркой, красивой.
Жертва может быть никем не замечена или замечена немногими. Жертва Иисуса была бы никому не известной, если бы не его ученики, разнёсшие благую весть urbi et orbi. Нужна жертва, которая сумеет выскользнуть из сетей, созданных для того, чтобы ни один комар не проник в контролируемые смысловые заповедники. Только такая жертва сможет остановить состав, несущийся под откос.
Эрнест подошел к окну. До рассвета было ещё далеко. В свете отражённых огней он увидел дорогу и контуры сараев. Потом, шелестя, проехала машина, фарами нащупывая дорогу, стены и заборы, и снова стало тихо. Он почувствовал значимость этой минуты, завершённость увиденной им картины, в которой всё было нереально: его сутулая фигура в белой рубахе, и едва различимые предметы, и мёртвая тишина за окном.
Он понял, что жертва для него уже не является жертвой, а обычным шагом. Он мог бы без колебаний сделать этот шаг прямо сейчас, и через час, и через десять лет. Не нужно ничего объяснять. Хрупок мир, и хрупко и неуловимо понимание. Чёткость мысли приводит лишь к ещё большему непониманию, к логическим тупикам, к ненадёжности силлогизмов.
В одно мгновение перед ним мелькнули десятки случаев, когда философы бросались в жерло вулкана, поэты взрезали себе вены, лунатики прыгали с высоты, уверенные, что полетят, врачи принимали смертельные снадобья, испытывая их действие на себе, лётчики направляли самолёт на сверкающие скалы, а монахи давали обет любви и безбрачия. Все они были уверены в том, что их жертва откроет им истину или поможет её постичь другим. Он помнил о воинах, опустошавших провинции, стиравших с земли города, убивавших тысячи пленников, о газовых камерах, в которых в жертву приносились целые народы – всё ради справедливости, ради установления нового космического баланса. Но Эрнест знал, что в нём нет ни жажды самоуничтожения, ни садизма и мстительности, что им руководят совсем другие мотивы.
Сбросив оцепенение, Эрнест отошёл от окна. Неторопливо оделся и направился к выходу. В дверях помедлил, вернулся и осторожно вошёл в комнату жены. Жена спала, зарывшись в подушку и сладко посапывая. Эрнест улыбнулся и вышел, неслышно затворив за собой квартирную дверь.
Через минуту он уже отпирал дверь сарая во дворе под своими окнами. Выкатил из сарая тележку с установленным на ней сигарообразным объектом выше человеческого роста. Поставил его на подпоры и откатил тележку. Теперь стало видно, что это небольшая ракета с металлическим корпусом и едва заметной боковой дверью. Нажал невидимый рычажок, и дверца открылась. Внутри было место дня одного стоящего человека. Не оглядываясь, вошёл и закрыл за собой дверцу.
На несколько минут двор опять погрузился в неподвижность. Потом под ракетой сверкнула искра, и загорелось упорное пламя. Пламя вылетало из-под неё с нарастающим свистом, ослепительный столб бешеного огня ослепил окружающие постройки. Свист перешёл в пульсирующий оглушительный рёв, рёв – в грохот, и ракета начала подниматься над землёй, сначала неуверенно, но потом всё быстрее и ярче. Из-под неё вылетала мощная струя огня и дыма, отрывая её от земли, заборов, крыш, стен и домов испуганного города, от окон, к которым прильнули расплющенные физиономии разбуженных обывателей, от этого погружённого в ночь мира безнадёжности и страха.
На головокружительной высоте, куда ракета поднялась, превратившись в почти невидимую точку, раздался приглушенный хлопок, и из неё в разные стороны полетели огромные серебряные хвостатые кометы, красно-синие пионы с золотыми хвостами, золотые орхидеи с пурпуром, фиолетовые ирисы с золотой искрой, золотая пальма, красная хризантема, синяя рассыпающаяся хлопушка с красным и зелёным фосфором, серебристые спиральные бокалы красных и зелёных калл, багровые мирабели, золотые обширные хризантемы, серебряная ива, жёлтые гелениумы в пурпурной дымке. Всё это с треском взрывалось, разлеталось, переливалось, щёлкало, а потом рассыпалось и с шипением гасло перед немногими случайными зрителями многомиллионного города, томившимися от больной совести и бессильных мыслей.
Фейерверк продолжался недолго, но запомнился как курьёзное ночное происшествие, отмеченное короткой заметкой в вечерней газете.
25.04.15
Москва
Иллюстрации художника Сергея Родыгина (Нью-Йорк)
© Аркадий Ровнер, 2015.
© 45-я параллель, 2015.