1.
У меня привычка: когда не спешу, спрыгиваю из троллейбуса за две остановки до конечной и дальше иду пешком.
Ограда стягивала аккуратненькие домики. За прочными засовами томились тёмные и пустынные дворы. В окнах ни огонька. Время от времени торжествующе, словно только меня и поджидала, откуда-то из-под моих пяток закатывала истерику голосистая дворняжка. Я бил каблуком в забор, и, ломая голос, рычал и тявкал, как заправская шавка, и полкан гневно гремел цепью, заходился кашлем и, наверное, брызгал слюной. Справа и слева демонстрировали солидарность соседские псы – и впереди меня, и за спиной набирал силу многоэтажный хор, которым я дирижировал, раздавая пинки по калиткам.
Через каждую сотню шагов открывались тёмные переулки, и я, как ни силился, не мог различить, что таилось в их тишине.
На углу Северной и Труда торчала ржвая колонка, наполовину вросшая в землю. Если вам вздумается промочить горло, придётся переломиться в акробатической фигуре, и редко кому удавалось не запачкать коленей или рук. Вода бесхозяйственно стекала к забору, сколоченному из мрачных широких досок, застаивалась, и обильно орошаемая опушка палисадника зарастала пышными бакенбардами из жирно-зелёных лопухов, щирицы и непобедимой амброзии.
Придерживаясь рукой за колонку, покачивался гражданин среднего роста. Он вожделел прополоскать глотку артезианской влагой, но не мог одновременно нажимать на металлическую ручку и подставлять открытый рот под струю. Когда брызги разбивались о его острый подбородок, он терял равновесие и тыкался в щебёнку коленом или ладонью.
– Не получается, земляк? – я задержался и придержал скользкий рычаг, пока он торопливо и шумно хлебал, переводя дух, и снова прилипая к фонтану.
Когда незнакомец распрямился, стало ясно, что он пьян. Волосы на его голове намокли, жиденькая чёлка наехала на правый глаз. Однако костюм на нём сидел вполне приличный, импортный, и был он при галстуке, не совсем уместном в такую теплынь. Когда он потянулся руками к макушке, на манжетах тускло высветились рубиновые запонки.
У меня предубеждение против пьяных. Как будто ощущаю насилие, которое изрядно принявший на грудь намерен совершить надо мной. Подозреваю, что он презирает мою трезвость и желает, чтобы и я закосел. Во всём мире есть всего несколько человек, которые и под хмельком приятны мне.
– Парень, ходи прямо, держись на плаву, вот мой совет!
Я отвернулся.
– Стоп машина! – он требовательно ухватил меня за погончик на плаще.
Мне не понравился голос: в нем проявилось больше властности, чем можно позволить подвыпившему. Я толчком сбросил чужую руку и сжал кулак.
Что меня остановило? Может быть, несмелость и жалкость в его лице.
– Что такое?
– Она меня выгнала, – он смотрел на меня и покачивался. Мне показалось, что он не видит меня. Может быть, даже не знает, что я стою рядом.
– Она сказала, уходи. Да, она сказала так. Нам, сказала она, не о чем говорить. Она сказала мне. Мне…
Я опять отвернулся от него, чтобы уйти. Я проклинаю себя в такие минуты: ну чего бы стоило задержаться на пару минут, выслушать, посочувствовать, выпытать забавную историю? Но я уходил и не обогащал память познанием новых сторон жизни.
– Она врёт. Она всё врёт… Хочешь выпить? – он извлёк из внутреннего кармана пиджака плоскую бутылку. – Это братан с Мальты привёз. Он старпомом ходит.
Я принял элегантный четырёхгранный бутылёк и отхлебнул. Второй раз в жизни я пробовал виски. Впервые я прикоснулся к эликсиру, воспетому во многих авантюрных и прочих романах в семнадцать лет. Общение с легендарным напитком разочаровало. Я недоумевал, как могли любимые мной писателя восхвалять недоваренную самогонку? Ответ догнал только сейчас. У колонки. Это напиток под случай. Вот так, глотнул, и что-то провернулось в мозгах, и ждёшь, что будет дальше. Глоток как содержательная пауза. С водкой так не получится.
– Она сказала, что я не мужчина. Сука она. – Тусклый снопик флегматичного фонаря вяло преломился в мутном донышке. Привет с Мальты. – Ты слышал, она сказала, что я не могу, и выгнала меня.
«Заходи, приятель, звонит ёж ежу, я тебе иголки покажу», – всплыли в памяти строчки читанного в далёком детстве стишка. Теперь я не хотел уходить.
– Ты тоже думаешь, что я не могу? Скажи, ты тоже не веришь, что я могу? – он подвёл к моему лицу жуткие невидящие глаза. Две слепые луны. Я был спокоен и знал, что он ничего не выудит из моей физиономии.
– Ничего я не думаю.
– Нет, ты тоже так думаешь. А я могу. Зачем она меня выгнала? Я могу. Я сейчас приду к ней и докажу, что я могу.
Он хитро улыбнулся. Однажды я видел такую беззащитно самодовольную гримасу. Было это в психиатрической больнице. Во дворике прогуливался стриженый пациент из не буйных в классическом полосатом халате. Он слюнявил химический карандаш и задумчиво рисовал на ладони формулу построения коммунизма. Иногда он скрытно, но значительно поглядывая на меня.
Брат моряка подмигнул, как будто намеревался посвятить меня в тайну и вместе с ним обмануть ту, которая не верит в него. Я же был по-прежнему убежден, что он не видит меня. А он хрипел мне прямо в кадык:
– Я сейчас докажу, если ты не веришь. Я докажу. Ты только потрогай, потрогай! И узнаешь, что я могу.
Он крепко захватил мои пальцы в свои, холодные и влажные, и потянул вниз, больно оцарапав мизинец об острый край металлической пряжки. Я вырвался, грубо толкнул в грудь и быстро пошёл, почти побежал.
А он кричал вдогонку:
– Ты не веришь, сука! Я докажу!
2.
Я проникал к себе через балкон, так как обитал на первом этаже. В нашей комнате по вечерам собирались соседи, и они радостно приветствовали меня. Я знал заранее, что они скажут, и что я отвечу. Но каждый из них оставался загадкой, как и в день знакомства. Над этим парадоксом я ломал голову.
В шкафу на видном месте вторую неделю обиженно скучала початая бутылка «Пшеничной». Надо ли ещё что-либо добавлять к этому штриху в портрете нравов обитателей комнаты? Разве что, раскрытый Фейербах на столе с вяленой кефалью и баллоном сухого вина – дар из Тамани. Впрочем, умели здесь разливать по стопкам и водку, и случалось, делали это не без лихости. Это-то и бесило некоторых старшекурсников, державших деканат в боевом напряжении своими регулярными возлияниями. Они могли понять сухой закон. Нет, так нет! Но они не могли понять меру. Что хотите, Россия, господа!
Эрос плутал по поздним коридорам и секциям. Впрочем, в нашем корпусе он был скорее рахитиком со спичечными ножками, чем мордастым бутузом с луком и стрелами, увековеченным на полотнах великих мастеров.
Пятый этаж заселяли девчонки. За дверью в секцию, у мусорного бака уже несколько дней несла ночную вахту скромная парочка. И его, и её лица казались мне пресными. В них не было огня, как будто в тёмный угол, где можно не только затянуться бесконечным французским поцелуем, но и наспех позволить себе многое другое, их заманила скука. Они смахивали на виденную где-то гипсовую композицию пионера и пионерки, занесённую сюда, может быть, для назидания. Или чтобы занять место.
Я постучал в дверь, за которой меня ждала Илона. Или должна была ждать.
Илона. Необычное имя придумали для неё родители. В первые дни оно казалось нам дурацким и вызывающим.
В студенческом общежитии можно наведываться в гости в одиннадцать, двенадцать и даже в двадцать пять часов. В остальное время суток – тоже. Это изнуряет, но все попытки отгородиться от эгоистических законов сообщества кончались либо бегством «на квартиру», либо смирением.
– Ты сегодня рано, – подняла от книги чудесные агатовые глаза Илона.
Я взял в руки раскрытый томик:
– О, Фолкнер. Дашь почитать?
– Не думаю, что у тебя иссяк запас острот.
Не отзывается, значит, всё-таки обиделась. Или просто разговор не клеился.
По соседству с Илоной на скрипучей панцирной сетке по ночам ворочалась Татьяна Рябчикова. Из школы она прихватила для устройства своего будущего золотую медаль. В первые же дни я выдернул из оравы незнакомок её симпатичную мордашку с карими глазами, в которых было растворено изумление. Первый диалог стал и последним. Студенческий свет мелок и завистлив, как и порочный дворянский, которому поручик Лермонтов бросал в лицо железный стих. В группе не сомневались, что Татьянину реликвию сняла с новогодней ёлки её мама – директриса сельской школы. Я в эту сплетню не верил. Татьяна как божья коровка упорно ползла по каменистой тропе зубрежки к заоблачным вершинам, где её поджидал красный диплом. Она не подозревала, что она – женщина. А жаль. Кто-то много потерял. Под запахнутым халатом директорской дочки колыхались волны, для которых в универмаге не найдёшь лифчика. Грудь поражала своей несоразмерностью с хрупкой фигуркой девочки-подростка: узенькие плечики, тоненькая шейка, руки-ниточки. Эта асимметрия сводила меня с ума. Когда занавес невзначай приоткрывался, являлось зрелище, способное до колен отвалить челюсть ценителя дамской роскоши. Увы, я был единственным зрителем. Грех скрывать, в эту обитель я заглядывал как на вернисаж: только здесь можно было застигнуть Татьяну в халате.
– И где же вы были с подругой? – откуда у женщин такая тяга к инквизиторским расследованиям?
– Дышали воздухом.
– Ты, кажется, расстроен.
– Нет, я всем прекрасно доволен.
– Ты обманщик.
– Не больше, чем ты. Тебя не было в комнате, я всё объяснил.
– Да, ты всё объяснил в записочке.
– Что можно. Всего в записке не объяснишь.
– Конечно, ты рассказал бы, как ты её, нет, не любишь, но как ты её понимаешь и как сегодня ты почувствовал, что она особенно одинока, и без твоей поддержки ей просто не протянуть. Ты же Иисус Христос и ты призван утешать.
– Да, я Иисус Христос, а ты противная ворчливая баба, к тому же ещё и глупая.
– Мне кажется, ты давно уже не способен отличить, кто глупый, а кто нет.
Намёк понятен. Недавно Илона подарила мне сборник современных зарубежных детективов.
– Читай внимательно, – предупредила она. – Одно место я отметила. Это что я думаю о тебе.
Я не стал читать всё подряд, а быстренько перелистал и в повести Агаты Кристи «Вилла Белый конь» наткнулся на отмеченный карандашом абзац. Речь шла о герое, человек незаурядного ума, который влюблялся почему-то только в глупых красавиц.
Я перебрал в уме всех девчонок, с которыми дружил на памяти Илоны. Насчёт незаурядности – это на её совести, а с остальным пришлось согласиться. По-видимому, она была права и в отношении тех, которых не знала.
– С умной неинтересно. Во-первых, она может оказаться умнее тебя. А, во-вторых, не сморозит глупость, а это скучно, – разговор без глупостей.
– Глупости ты мог бы взять на себя. Ты вполне справишься за двоих.
– Ты сегодня как никогда мила. Вспомни, как мы из-за тебя не попали в театр.
– Я ходила к брату, а не с мальчиками прогуливалась.
– А брат, что, девочка?
– Если бы он был девочка, ты бы давно с ним познакомился.
Что за прелесть этот дружеский, почти семейный разговор!
Мои друзья Илону недолюбливали и не понимали нашей странной дружбы. Она много читала, но не любила говорить о прочитанном. Знала наизусть уйму стихов и прозы и могла заткнуть за пояс любого прикинувшегося знатоком. В том числе, и меня. Кроме книг, ее, казалось, больше ничего не интересовало. Читала она поразительно много и быстро. Я завидовал её чудовищной памяти. Она проглатывала абзацы глазами – тридцать секунд страница. Некоторые ловеласы по инерции подсаживались пококетничать и натыкались на воинственное равнодушие. «Илона, это платье тебе идёт…» – после такого комплимента к ней можно не подходить. Исключение составлял я, потому что мне позволялось произносить дерзости.
Мы учились в одной группе. На переменках частенько уединялись и болтали, больше о книгах и литературе.
– Мне с тобой интересно, – говорил я.
– А мне с тобой не скучно, – отвечала она.
Совсем некрасивую женщину надо поискать. Если не идеальны черты лица, прекрасной может быть фигурка.
Илона была стройна и в этом смысле даже восхитительна. На пляже она не сидела на месте, а бродила вдоль кромки воды. Мужчины пожирали её глазами. «…летают ножки милых дам, по их пленительным следам, летают пламенные взоры». (А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»)
И всё-таки она была не самая симпатичная и большую часть года проводила не на пляже и не в купальнике. К тому же, она не умела пользоваться своими дамскими достоинствами. За все годы она ни разу не надела туфли на высоком каблуке, хотя её-то ножки, вознесённые на постамент платформы, могли произвести известный фурор в кругах ценителей. А наши бабоньки обсосали бы эту новость до лоска. Но новость не могла состояться. По моим наблюдениям, её шокировало, что она может быть объектом эротического внимания.
Мне импонировали её прямодушие и смелость. Она могла говорить обо всём. Как-то она спросила, глядя прямо в глаза:
– Ведь ты никогда на мне не женишься?
Ответить на этот вопрос у меня не хватило духу.
Все считали, что Илона влюблена в меня. Я бы согласился с этим, но не до конца. Женщина не знает сама себя. Она может быть убеждена сегодня в одном, а завтра будет стоять на другом.
– Ты мне друг, – говорил я и иногда дарил ей цветы.
– Хорошие розы, – подносила она букет к лицу, и, закрыв глаза, вдыхала аромат лепестков. А я не распространялся, что приволок букет, с которым меня выперли. Кроме того, я не хотел, чтобы кто-то завёл традицию дарить ей цветы. К пятому курсу студентки массово подумывали о замужестве.
– Я тебя поцелую.
– Нет, – защищалась она ладонью, – ты меня не любишь.
– Вот поцелую, и полюблю.
– Так не бывает.
Иногда мы делили её постель, потому что мне негде было ночевать. Моё койко-место до утра оккупировал друг с подругой. И я поднимался к Илоне и теснил её. Мы больше болтали, чем спали, а привыкшие соседки утром посмеивались: ну, как, любовники?
Я имел право на Илонино время. Так же, как и она на моё. Я позволял себе взять её за руку и вывести из-за стола любой компании, никому ничего не объясняя. «Ты деспот», – однажды сказала она. «Нет, я не деспот. Я просто воспитываю в тебе женщину».
Мы бродили по спящему городку, а по крышам корпусов перекатывалась луна и подглядывала за нами. Илона рассказывала о Маркесе и Борхесе, которые входили в моду. С Маркесом я познакомился через неё. Маркес – писатель вулкан! Так никто и никогда не писал! Я не мог согласиться, что на тощем культурном гумусе слаборазвитой Колумбии может произрасти художественный гений, сопоставимый с Толстым, Фолкнером, Беллем. Планктона не хватит. Поэтому сразу не оценил «Сто лет одиночества». Не задела и повесть «Полковнику никто не пишет». И только уже после института в руки попалась ранняя вещица Маркеса «Палая листва». Достаточно простой рассказ. Но в нём был скрыт ключ ко всему Маркесу. В меня тут же въехал «Полковник…» А следом и «Сто лет…». Да, вулкан, да, чудо. Умеют же писать люди! Но это была не зависть, а восторг перед божественным промыслом – дух живёт, где хочет.
Но чаще я бывал занят. Меня занимали разные глупые красотки. Вечера были кому-то посвящены, и я не знал, чем занимается Илона. Наверное, читала и грустила. Когда же я заглядывал в её комнату, она приветливо, будто только этого и ждала, заваривала кофе. Мы поглощали дефицитный напиток и продолжали прерванный когда-то разговор. Как будто ничего не произошло. Да ничего и не произошло. Мы же не были влюблёнными и нам не приходилось объясняться.
Мы просто пили кофе. И с каждым горячим глоточком в меня словно вливались волшебные капли покоя и уверенности, и я удивлялся, почему так давно не поднимался к Маргарите.
Да, я должен уточнить. Друзья звали Илону по-разному. Одни как оно и есть – Илона, другие – Лона, Лора. Она отзывалась и на Лина и, на Рина даже на Илка.
Но для меня и между нами она была Маргаритой. Сокращенно – Марта или Марго в зависимости от ситуации и настроения. Нет, никаких нескромных ассоциаций с Мастером, которому обязательно подавай свою Маргариту. На первом курсе я ещё не добрался до «Мастера и Маргариты», и даже, каюсь, не подозревал о таком писателе – Михаиле Булгакове. Был другой источник, но примазывание к нему отдаёт ещё большей нескромностью. Кто знает, догадается. Илона понимала, о чём речь, и приняла, и тем самым добровольно передала в мои руки некоторую власть над собой. Имя – это судьба.

3.
– Пойдём в дендрарий?
– А не поздно?
– Половина двенадцатого.
– Хорошо, – согласилась она.
Лунный час без сомнения принадлежал Илоне, самой несонливой из нас. Вместо будильника ставили «на Илону». Это было надёжнее. Она обожала крепкий чай и ночь. Ночь – это темнота и безлюдье. Те, кто скрываются, становятся самими собой, не боясь быть опознанными.
Есть несказанная прелесть в том, чтобы в полнолуние пройтись по зелёной траве, и ещё лучше – босиком! Илона любила босиком ходить по траве. Серьёзные однокурсницы до сих пор с предосуждением вспоминают, как она скидывала босоножки и после дождя скакала по лужам перед главным корпусом. Это было давно.
Я спрыгнул с балкона на асфальт и отвернулся, чтобы не подглядывать, как она закидывает ноги над перилами. Потом она замерла надо мной, держась левой рукой за перекладину. Я взял её на руки и поставил рядом.
Мы шли вдоль корпуса, и кто-то обязательно провожал завистливым взглядом со второго, третьего или пятого этажа. Я ощущал это спиной.
Около полуночи в жизни обитателей открывалось второе дыхание. Они распахивали двери на балкон, открыв улице обрывок разговора или перебор гитарных струн, и выходили покурить. Стояли, молча или переговариваясь, потирая ладонями обнажённые плечи и грудь, словно втирали в кожу вечерний аромат. Возвращались, бросив тлеющую сигарету, и продолжали простое и таинственное существование. Таинственное, пока ты по эту сторону дверей, и простое, когда входишь и находишь их такими, какими оставил полчаса, час, день, месяц назад за теми же разговорами, на тех же стульях, с той же весёлостью и приветливостью.
Дендрарий затаился шагах в ста. Скоро показался белый, точно гипсовый забор. Мы перешагнули через неглубокий ров, в котором лежала бетонная труба, миновали будочку из красного кирпича и ступили на уползающую под траву дорожку, которая вскоре раздваивалась. Узенькая тропинка, усыпанная пожелтевшими сосновыми иголками, забирала вправо, в лес, а широкая, пыльная, укатанная велосипедами и мотоциклами, вдоль забора уходила дальше. Мы свернули вправо, и руки сами поднимались, чтобы отодвинуть коснувшуюся лица веточку.
Я никогда не знал, что и зачем делаю. В моей жизни не хватало определённости. Но откуда ей было взяться, если я и стремился к ней и избегал её?
Да и нет. Два слова, а в них всё.
«Да, приду», – и меня ждут, и я жду, и все знают, что что-нибудь да будет.
«Нет, Наташа, извини, я сегодня не могу», – и меня не ждут, и обо мне думают совсем не так, как если бы я сказал «да».
Этими словами я почти не пользуюсь. Для меня они очень сильнодействующее средство. Соглашаясь с чем-то одним, отказываешься от всего другого.
Если мне и случается произнести одно из этих слов, то делаю это вынужденно, как бы прощаясь с тем, что своей категоричностью они навсегда отсекают от меня.
Говорю вслух «да» или «нет», а про себя добавляю «но». И мысленно не с тем, с чем только что согласился, и что осталось, а с тем, что уплыло и волнует своей невозвратимостью. Иногда я завидую зверям. Они осуществили идеал, к которому мы стремимся: они всегда равны сами себе. Они знают, что делают, потому что другого не умеют. У них нет альтернатив и сомнений. Одна жизнь, одна шкура – волка или зайца – одна судьба. А мы хотим прожить много жизней, угадываем, выбираем, боясь прогадать. И сомневаемся.
Но это уже мое личное дело. От меня требуется лишь «да» или «нет». И я часто произносил эти слова наугад. Да, так да. Нет, пусть будет нет.
Десять минут назад я не знал, что окажусь в дендрарии. Пять часов назад в мои планы не входило провести вечер с Илоной. Четыре года назад я не предполагал, что буду учиться в этом институте.
Моя сегодняшняя жизнь казалась невзаправдашней. Многое я принимал снисходительно, чуть ли не с лёгким пренебрежением. Всё это казалось искусственными декорациями, которые заслоняли пока что скрытое подлинное настоящее. Может быть, потому, что я легко воображал другую жизнь. Наверное, самые неутомимые бабники – ранние онанисты. Давным-давно в детских снах им приносила наслаждение невесомая, неузнанная, ни на кого не похожая женщина, и, отравив воображение, наобещала больше, чем может подарить любая красавица. И они, одержимые, не соглашаются с явленным в снах заклятьем, и мечутся, повинуясь зову.
Необязательно ночью идти в дендрарий. Так же необязательно точить лясы с товарищами. И тысяча других «не обязательно»: идти именно в эту компанию, выходить именно на этой остановке, целовать эту женщину, драться с этим мужчиной...
И всё же нельзя, чтобы не было ни одного «обязательно». И ты, томимый предчувствием, будешь бежать от неразрешимого «могу – не могу», «хочу – не хочу» и будешь искать подавляющее соразмерностью с твоей тоской «должен».
– Марта, я похож на Христа?
– Ты бледней.
– Я на десять лет моложе. У меня ещё есть время наверстать.
– Ты много о себе думаешь.
– Зато я добрый.
– Ты добрый?
– Ты не знаешь, какой я добрый. Я просто излучаю доброту и любовь.
– Зачем ты тогда поссорил Толика с Надей?
– Я их не ссорил.
– Нет, поссорил.
– Они сами поссорились.
– Если бы не ты, они не поссорились бы.
– Да они и не поссорились.
– Надя плачет.
– Я не ссорил.
– Тогда помири.
– Легко сказать.
– Тебя Толик послушается. Он же сам мучается.
– Я не ссорил. Я просто сказал, что через десять лет от куколки Нади останется рыхлая, толстая баба.
– Зачем ты ему это сказал?
– Потому что он сам попросил сказать, что я думаю.
– Ты говорил, что Надя тебе нравится.
– Она мне нравится.
– Самое большое удовольствие – нагадить ближнему?
– Он собирался жениться, и сам спрашивал, что я думаю.
– Тоже мне, советник.
– Толик красивый парень. Что будет, если он её разлюбит? Начнет гулять. Думаешь, лучше было бы?
– Откуда ты всё это знаешь?
– Накопления личного опыта.
– Мог бы и не лезть со своим опытом.
– Я и не лез. Меня спросили, я сказал. Если он согласился, какая тут любовь?
– Ты накаркал. Он тебя слушается...
«Помогите-е! Ка-а-рау-ул! А-а-а!»
Кричала женщина, и совсем недалеко от нас. Закричала она неожиданно. Я вздрогнул. Заныло запястье. Это крепкие пальцы Илоны... Я порывался навстречу крику, и не мог. Она держала всем телом и молча умоляла не двигаться.
Неприятно, когда в твоё красноречие врывается вопль о помощи. Надо кончать изображать из себя личность и становиться ей. Нам это нелегко делать. Мы даже не всегда виноваты в том, что нам чаще приходится слыть, чем быть. Так устроена современная жизнь, и мы привыкаем больше ожидать от других, чем от себя.
– Пусти, Марта...
Молчит.
– Маргарита, отойди за деревья к тропинке.
– Я с тобой.
– Отойди за ель, сними туфли. Так легче бежать. Сгоняй к нашим и найди Сергея...
– Я не пойду.
– А ну топай... – зашипел я, и она отодвинулась в тень.
Я пошарил рукой по колючей траве и нащупал узловатый сук.
Шагов через семь я выглянул из-за ели.
Полная луна освещала маленькую, круглую полянку, покрытую высокой травой. Полянка прижималась к лысому, усыпанному иголками, берегу подковообразного искусственного пруда, в котором рос индийский лотос. По берегам склонялись плакучие ивы, и их змееподобные листья притягивали к себе лунные пряди.
В траве, в стороне от ржавой тропинки, барахтались несколько человек, и ещё двое стояли. Я хорошо различил, что это подростки пятнадцати-шестнадцати лет. На травяном паласе возились трое парней и девчонка, прижатая к земле. Один подросток шевелился у её изголовья и зажимал коленями голову. Другой навалился сверху. Третий срывал трусики.
Она поднимала ноги, как будто целилась ударить в лицо. И казалось, что она очень устала.
Платье задралось выше пояса, и обнажились ноги. Никогда не думал, что женские ноги могут быть такими пленительными. Несколько секунд я наблюдал за ними, и ничего кроме них не видел.
Тот, третий, сорвал трусики и перебросил через плечо. Они расправились в воздухе и плавно опустились на газон.
Я вёл себя нехорошо. Я смотрел на ноги. Если точнее, пожирал глазами. Они бились как две белые рыбы, выброшенные на берег.
– Ребята, вам помочь?
Самое главное – спокойствие и уверенность.
– Осваиваете лунные ванны?
Немая сцена.
– Молодцы: мальчики, помогаете девушке принимать загар.
Снова пауза. Маленькая, но ощутимая пауза.
В темноте, промасленной луной, мы нащупали глазами друг друга. Мы располагались на разных чашечках весов, и пока сохранялось равновесие.
Жертва уже сидела на траве, вытянув ноги. Я разглядел её. Она была спокойна, и не порывалась сдвинуться с места.
– Ха-ха-ха! – подала голос девушка, и голос у нее оказался ниже и грубее того, какой я слышал, – ха-ха-ха, спаситель! Ха-ха!
Она откинула голову. Из её открытого рта, как из дула гаубицы, вылетали каркающие: ха-ха-ха! Когда ей стало невмоготу от смеха, она ткнула пальцем.
– Ха-ха-ха!...
Я отбросил дрын и развернулся.
– Может, попробовать хочешь? – взвизгнул вслед ломкий фальцет, и все загоготали.
– Ха-ха-ха! – надрывалась девица.
Она была пьяна.
– Женя.
Я вздрогнул, столкнувшись с Илоной. Она прижимала к груди босоножки.
– Ты почему здесь?
– Тебя жду.
– Ты почему в общагу не побежала?
– Не побежала.
– А если бы что-нибудь случилось?
– Ничего же не случилось.
– Я тебе по шее дам.
– Дай.
– И дам.
– Ну, дай.
– Иди сюда.
– Я дрожу вся, – стуча зубами, прошептала она.
Остренький подбородок уткнулся мне в плечо. Она в самом деле дрожала. Её дрожь передавалась мне.
– Не тряси меня, а то листья осыплются.
– Не могу. Меня знобит. Обними меня.
Я чувствовал себя хорошим, добрым человеком. В моих руках худенькая девчонка, и надо сделать так, чтобы она не дрожала. А что? Разве что обнимать и шептать на ухо всякую чепуху. И чтобы это была ласковая, приятная ей чепуха, и вместе с тем избежать слов, которые её обманут: милая, люблю. Обычно я не скупился на эти слова, и раздавал направо и налево, и никогда не жалел ни об этом, ни о тех, кому адресовал. Если кому и стоило посвятить эти слова, так это Илоне. Но этого-то я и не делал.
Потом мы гуляли по дорожкам скверика у главного корпуса. Мы не вернулись домой, нам нужно было побыть одним.
Голубые ели лоснились, словно спины холеных кошек. Вдоль дорожек замаскированными ёлочками росли светильники на высоких ножках. Они источали интимный свет, которого хватало только на то, чтобы разглядеть выбитый краешек серого бордюра, да вдруг шлёпнувшуюся откуда-то прямо под ноги фиолетовую лягушку. Увидеть и тут же забыть, так тускло мелькнувшее отпечатывалось в памяти. По-настоящему было видно только лицо спутника.
– Марта, какие люди противоречивые. Знаешь, что я больше всего запомнил?
– Что?
– Ноги. У этой стервы я не разглядел лицо, но помню ноги. Может быть, я их навсегда запомню. Такие красивые и откровенные. Как, по-твоему, плохо это?
– Нет, наверное. Помнишь, ты же сам рассказывал, что тебя больше всего поразило в книге Юлиуса Фучика «Репортаж с петлёй на шее»?
– Что?
– Когда его везли на допрос в гестапо, он в щёлочку разглядывал женщин на улице и загадывал, что если насчитает семь пар стройных ног, его в этот день не расстреляют.
– Было дело…
– Тебя поражало, с каким восторгом он рассматривал и оценивал женщин, как будто он на свободе и ему жить сто лет.
– Да, поражало.
– Меня тогда поразило, что ты говорил мне об этом.
– Серьёзно?
– Да. Мы ведь с тобой тогда ещё не были так близки – она запнулась, – ...так дружны.
– Ты решила, что я пошляк?
– Нет. Вообще-то раньше я считала пошлостью говорить об этом. Обо всём, что касается этого. И не думала, что это может быть не пошлым. Ты сказал просто и откровенно, и это не показалось пошлостью. Ты бываешь несносным, даже грубым, честное слово, а вот пошлым ты не бываешь.
– Я боюсь пошлости и банальности.
– Ты боишься делать обыкновенные поступки. Ты лучше сделаешь глупость.
– Ты уж хватила.
– Нет, я по-хорошему. Я это сразу в тебе поняла. Помнишь, мы только первый начали курс, и ещё плохо знали друг друга, и физик Геша выгнал Любу. Кто-то разговаривал, а он подумал на неё и выгнал. Она пыталась что-то объяснить, а он её всё равно выгнал. Ты демонстративно поднялся и вышел вместе с ней.
– Сергей тоже вышел.
– Он ушёл после тебя.
– И что после?
– Ты думал, ещё кто-то уйдёт?
– Не сомневался.
– Зато вас с Сергеем с тех пор не разольёшь.
– Нет, мы до этого спелись.
– А остальные не поняли.
– А ты поняла?
– Не сразу. Сначала я решила, что ты возмутился, и удивилась твоей смелости и даже нахальству. Я ведь тоже возмутилась, но меня не хватило придумать что-то. А потом я поняла больше. Тебе стыдно было оставаться, ты боялся быть таким же, как и все: спокойным, будто ничего не случилось. Ты не можешь делать вид, что ничего не случилось, когда что-то случается. А если не можешь что-то сделать, придуряешься. Не знаю, я, наверное, что-то не так говорю.
– Из тебя получится хороший мой комментатор.
Илона остановилась. Она порывалась и не решалась что-то сказать.
– Хочу спросить тебя об одной вещи.
– Лепи.
– Неудобно говорить об этом. Обними меня и сделай так, чтобы не видел мое лицо. А я буду говорить тебе прямо на ухо. Я тебя спрошу так, как будто тебя здесь нет. Как будто я сама с собой разговариваю, хорошо?
– Хорошо.
– Правда, у меня красивые ноги?
– Да.
– Я слышала, что у меня красивые ноги.
– Я тоже слышал.
– А сам ты так не думаешь?
– У тебя стройные, непонятно почему красивые ноги.
– Я случайно подслушала на пляже. Очень пошло говорили о моих ногах. А мне было приятно слушать.
– Да, на пляже на твои ноги заглядывались.
– Правда?
– Когда мы были в Кабардинке, один поляк прямо убивался из-за твоих ног, и даже поил меня коньяком.
– Почему?
– Ему сказали, что надо у меня спросить разрешение, чтобы переспать с тобой.
– И он спрашивал тебя?
– Конечно, ему очень хотелось переспать с тобой.
– И ты разрешил?
– Но ведь я пил его коньяк, что мне оставалось делать? Я сказал, что не возражаю, если ты сама согласишься. И посоветовал ему надеть противогаз.
– Зачем?
– Чтобы ты не содрала с него скальп.
– Скажи, а тебе самому нравится?..
– Что заглядываются?
– Нет, вообще...
– «Едва ль найдёте вы в России целой три пары стройных женских ног». Александр Сергеевич, роман в стихах. Если бы он видел твои ноги, он воспел бы «четыре пары».
Она отстранилась. Ее лицо стало строгим и настороженным. Мечтательность куда-то подевалась, и мне показалось, что она разглядывает меня зло и мстительно.
– Ты что?
– Хочу спросить.
– Спрашивай.
– Я несимпатичная?
– С чего ты взяла?
– Нет, скажи.
– Ты глупая.
– Это я уже слышала. Ты ответь.
– У тебя чудесные глаза.
– Причём тут глаза. Скажи, я некрасивая?
– Почему я должен отвечать на дурацкие вопросы?
– Потому что должен.
– Нет, не должен.
– А кто должен?
У Илоны древнее, утончённое греческое лицо. В нём черты надменной и устремленной внутрь себя вымершей расы. Единственное, что было открыто в Илоне, это доброжелательные, вбиравшие в себя и всё понимавшие глаза. Чёрные, прекрасные глаза, никогда не знавшие лени или усталости: они печалились, любили, ненавидели, страдали, но никогда не отдыхали.
Она не знала, что делать с длинными, лоснившимися как воронье крыло прямыми волосами, и носила их небрежно подобрав к затылку или просто пустив по плечам. Она не экспериментировала ни с прической, ни с внешностью, и это отнимало у неё то, что нравилось нам в женщинах: расчёт на наше внимание. Она не искала расположения мужчин, и каждый штрих её внешности подчёркивал это. Поэтому в её лице не было той поверхностной таинственности, которую многим женщинам придают закупки в парфюмерных магазинах. Она застенчиво улыбалась, стараясь скрыть улыбку, но даже в этой улыбке не было недосказанности, намёка на что-то большее, чего и не бывает, но во что хочется верить. Это была улыбка хорошего человека, о котором заранее известно, что он хороший, и от этого она казалась очень ясной.
– Ты симпатичная девчонка, зря забиваешь голову.
– Если бы я была симпатичная, я бы тебе нравилась. Ты влюбляешься только в симпатичных.
– С чего ты взяла, не только в симпатичных.
– Да, не только. Ещё и в дур вдобавок.
– Ты хочешь сказать, что все симпатичные – дуры?
– Я хочу сказать, что ты влюбляешься только в тех симпатичных, которые дуры. Я даже могу сказать, почему тебя устраивают дурочки.
– Ну-ка, просвети.
– Потому что перед ними легче разыгрывать гения.
– При чём тут гений?
– При том. Они либо помалкивают, либо несут чепуху, а ты выдумываешь смысл. Ты сам себе морочишь голову. И перед этой Ватовской ты на цыпочках ходишь и повизгиваешь, когда она хихикает над твоими остротами. А она с таким же восторгом хихикает, когда в обычной фразе поменяют местами слова.
– Давай, разоблачай.
– Да, ты боишься умных и красивых. Ты трус, ты хочешь быть неотразимым и бить наверняка.
– Это всё?
– Нет, не всё. Есть кое-что ещё.
– Скажи.
– В другой раз.
– Тебе нечего сказать.
– Есть чего.
– Скажи тогда.
– Не могу.
– Сможешь.
– Это не я так думаю. Это что-то нехорошее во мне говорит.
– Скажи.
– Я боюсь тебе это сказать.
– Я не обижусь. И тебе станет легче. Ведь это мучит тебя?
– Мучит.
– Тогда скажи.
– Хорошо. Ты со мной спокоен потому, что знаешь всё наверняка.
– Что знаю?
– Всё знаешь.
– Что именно?
– А то.
– Да, я всё знаю. Я знаю, что Илона Розвальнёва, романтическая девушка, питает романтические чувства к романтическому Жене Горину. Он эгоистично эксплуатирует возвышенные порывы сентиментальной однокурсницы. Заявляется, когда вздумается, лопает сало, пьёт чай, забирает последние деньги, спит на балконе. Что ещё? Может увести с вечера или с лекции, и нарушить жизненные планы некоего молодого человека по имени Рома. Ах, извините, разбито пылкое сердце. А другому мальчику с балалаечной улыбкой он сказал, чтобы его дух простыл. И дух того простыл, и дух духа простыл, и дух сына святого простыл. И все отступились от прекрасной Илоны, остался один неколебимый индивидуалист Горин...
– Хватит.
– Что дальше?
– Ты деспот. Ты любишь властвовать.
– И подчиняться.
– Не видела: просила тебя позавчера…
– Спеть тебе песенку?
– Спой.
– Не пой, красавица, при мне…
– Ты дурак и эгоист.
– Я дурак и эгоист.
–Ты самовлюблённый эксцентрик.
– Я самовлюблённый эксцентрик.
–Я знаю, почему ты влюбляешься в дур.
– Ага, ещё одно доказательство бытия божия. Интересно, почему?
– Потому что дура тебе надоедает, и ты её бросаешь. Или она тебя бросает. Ты ни к чему не хочешь привязываться. Ты не способен любить.
Мне стало неуютно. Девчонка не теряла времени даром. Я кривлялся и паясничал, влюблялся и разлюблялся – или делал вид, что влюблялся, – ссорился с друзьями и откровенничал, сочинял брехливые и искренние стишки, выручал и прикидывался предателем, и за всяким моим движением следили внимательные, всё замечающие и никогда не ленящиеся глаза, и всё мое, разбросанное небрежно, случайно или умышленно, уже не принадлежащее мне, стекалось в неиссякаемую память и там, в глубине неутомимые пчёлки её воображения плели из собранных крох пополняющийся всё новыми подробностями узор.
Хорошо или плохо, что тебя знают и понимают, и, как ты ни маскируешься, умеют отличить ложные слёзы от искренних? Она знала обо мне больше, чем позволено знать чужому человеку, и даже догадывалась о том, чего никому нельзя было знать. Меня пугало её знание обо мне, но, по-садистски истязая себя, я пытался выудить побольше о себе.
Она права. Я не способен никого любить. По-настоящему. Только это вовсе не от себялюбия. Просто не могу. И хорошо, что она не понимает всего того, о чём догадывается.
В голову пришло, что если наш разговор записать на бумагу, получится неплохой диалог, выдержанный в хорошем литературном вкусе. А наша жизнь покажется не скучнее жизни литературных героев.
На всей нашей жизни отпечаток литературы. Мы много читаем и знаем с детства о себе такое, чего не переживали и, может, быть, не переживём до смерти. В юности я с удовольствием обнаруживал в себе сходство с людьми, выдуманными писателями. Это воспринималось как особый знак. А сейчас, наедине с девчонкой, которую я мучаю и жалею, и себя мучаю и жалею, и знаю, что мы нужны друг другу, я подумал, что литература не делает нас лучше. Добрее, во всяком случае. Мы узнаём о мировых скорбях и чужих утратах, и проникаемся чужой грустью, и учимся понимать невидимые слёзы в других. Но ещё больше мы учимся прислушиваться к своим болям. Хорошо ещё, если любовь к миру и любовь к себе возрастают одновременно, и пропорция между эгоизмом и альтруизмом по мере чтения и усвоения гуманистических идей остаётся постоянной.
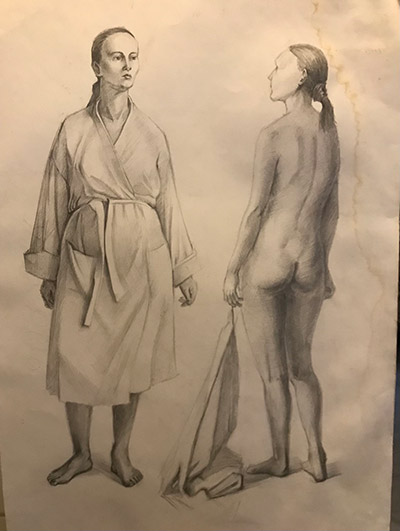
4.
Ночь, когда комары ещё не пронюхали о твоей горячей крови, и сосед не храпит, вполне пристойное место для размышлений.
Сон не шёл.
Я думал о Сергее, об Илоне, о Ватовской, о Светке. Всегда найдётся, о чём подумать, и это отвлекало от мыслей о себе
Сквозь дрёму я слышал, что дверь, которую мы редко закрывали на ключ, тихонько открылась. Стало жутковато. В памяти всплыло, как на первом курсе к нам захаживал африканец с тропического факультета. Мы обитали тогда в другом корпусе. Возвращаясь из ресторана пьяным в стельку, он задумчиво восходил по лестнице до нашего пятого этажа и неизменно проскакивал свой, четвёртый. Он проникал в нашу секцию, как в свою, привычно поворачивал налево, толкал «свою» дверь плечом и, не раздеваясь, в пальто валился на кровать к Марчеле. В первый раз наш товарищ, дембельнувшийся из армии сержантом, спросонья кричал на весь этаж. Потом привык и выражал восторг не так темпераментно. Араб ни разу не завалился ко мне или к Вовке, и мы посмеивались над Марчелой.
Моим арабом оказалась Илона.
Она тенью скользнула по комнате, приблизилась к изголовью. Постукивал будильник, а перед кроватью приткнулся стул с навешенными на спинку брюками и рубашкой. Ночные фонари тянули через балкон волоконца невзрачного света, и в комнате было полусумрачно.
Илона присела на краешек одеяла.
– Не могу заснуть.
– Посчитай слоников.
– Я не могу заснуть. Мне страшно.
– Сейчас я расскажу тебе сказку про храброго портняжку и всё пройдёт.
Её руки бесшумными струями стекали на колени.
– Верочка рассказала о Сергее и мне стало страшно. Как легко человеку остаться без надежды. И одному. Маленький толчок, и ничего нет.
– Не бойся.
– У тебя столько знакомых девчонок. Я знаю. Я всё знаю про тебя.
– Во многом знании многая печаль.
–Ты никогда не забываешь меня. Сколько девчонок ты забыл. Я не знаю, почему, меня это нервирует. И всё-таки лучше так, чем никак. Я боюсь, что ты меня забудешь. Вы со Светкой такие похожие.
– Не бойся, ты же сейчас не одна.
– Сейчас. Я не знаю, как долго продлится наше сейчас. Когда оно на глазах – я спокойна. А когда тебя нет, я чувствую угрозу.
– Когда об этом не думаешь, не так страшно.
– Я не могу не думать. Я хочу, чтобы всё было так, как я хочу. Мне холодно. Я лягу к тебе.
– А чем мы похожи со Светкой?
– Вы какие-то ненасытные на новых людей. Вы готовы доверить себя первому встречному. Вы не можете долго оставаться с одним человеком. Словно боитесь, что он о вас что-то узнает.
«А, может, и Светка чего-то боится?» – осенило меня.
– Ты говорил, что я тебе хоть чуточку нравлюсь.
– Конечно, нравишься.
– А почему же ты сейчас равнодушен ко мне?
– Я к тебе не равнодушен.
– Наверное, я дура…Скажи, я дура?
– Марта, ну, перестань…
– Притащилась к нему среди ночи…Тебе доставляет удовольствие меня мучить?
– Я тебя не мучаю.
– Я хочу, чтобы нас ничто не разделяло.
Я замолчал, молчала и она. И тишина подавляла.
– Ты плачешь?
Молчание.
Да, это были слёзы, и они горчили губы как луковый сок.
– Женя, помоги мне. Я схожу с ума. Неужели я такая отвратная и у тебя нет интереса ко мне, как к женщине? Молчи, сначала я всё скажу. Ты же ко всем пристаёшь. И я ждала этого… Мне это надо… Даже если ты меня не любишь… Я давно решила стать женщиной… И не могу ни с кем… ты же отгоняешь всех… Недавно я встретилась с одноклассницей. Она в политехе. Ещё в школе она была шалавой. Лет в пятнадцать отчим её соблазнил, а ей понравилось. Её в Анапе все мужики знают. Красивая. Я её всегда жалела. А она меня. Мы с ней на разных полюсах, но она не дура. С ней можно говорить обо всём. Она мне и сказала, что надо делать. «Отдайся первому попавшемуся!» Выпить для анестезии и вперед. И никаких проблем. Я поняла, что другого выхода нет. Она вытащила меня вечером на Красную. Там табунами такие ходят. Встретили двоих, работяги какие-то. Пришли к ним… Выпили. Комната у них одна, большая. И две кровати. Сначала я даже обрадовалась, что так будет лучше. Как на улице. Ничего личного… Я не могла снять трусики. Не могу и всё, руки как каменные…Тогда он начал стягивать, а на меня напала истерика… Я убежала… Я всё время ждала, когда же ты начнёшь приставать. Ты же кобель… Так говорят…. Ладно, не обижайся, я же не в обиду. Даже наоборот. Я хочу, чтобы у меня был первый мужчина… Я тебя люблю, но если ты не хочешь… Если тебе противно... Я схожу с ума… Разве я в этом отношении хуже других?
– Ты чудесная, милая девчонка.
– Неужели ты не понимаешь?
– Чукча ты, я когда-нибудь тебе всё расскажу.
– Нечего тебе рассказывать. Ты любишь мучить тех, кто любит тебя. Вот и всё.
– Я и сам мучаюсь.
– Не верю.
– Хочешь, я тебе кое-что покажу? Только, наверное, после этого я буду тебя ненавидеть. А, может, наоборот. Ты слишком много узнаешь обо мне. Узнаешь то, что тебе не надо знать.
– Я хочу всё о тебе знать.
– Подожди одну секунду.
Я включил настольную лампу и достал листки. Это было написано давно. Я никому не показывал, даже Сергею. Я и хотел, чтобы об этом знал друг, и не хотел. Но сегодня была дурная ночь объяснений и подведений итогов.
Армейский врач, крупный мужчина с кавказской наружностью и кавказскими усиками имел фамилию и отчество вполне русские: Сергей Михайлович Воронин. И говорил он чисто по-русски, но я бы никогда не поверил, что он – не грузин.
Мне не импонировали мужчины, у которых под усиками губы как бы приоткрыты в треугольном разрезе, как раздвинувшиеся подушечки, да ещё чуть-чуть красноватые. Казалось, он только что сытно пообедал и теперь, сдерживая икоту, ищет случая незаметно поковыряться в зубах. Я невольно искал в руках Воронина сложенный треугольником платочек, которым он вытирает губы.
Но у капитана медицинской службы в руках оказался не платочек, а стетоскоп, который ему, собственно, ни к чему, исходя из его психоневрологической специальности. Он весело балагурил с фельдшером.
Визиты начались через полгода после того, как во время учений произошла утечка жидкого топлива для ракет. Я почувствовал, что со мной творится что-то неладное. Не помню, как я догадался. Наверное, по рассказам других ребят-ракетчиков. Рассказам о тех, кого невесты могут уже и не ждать, хотя они, быть может, проживут и до ста лет. Вот тогда-то меня и проняло: боже мой, у меня тоже «это».
Воронин не скрывал правду. Он дважды заставил меня пройти анализы, и дважды я, изображая на физиономии равнодушие, искал в его глазах спасение. Он секунду разглядывал листок с цифрами, хмурил брови и кусал кончик уса, а потом быстро переводил взгляд на меня. Я сразу понял, что это хороший человек. Мне симпатичны люди, которые умеют спокойно смотреть тебе в лицо, хотя им приходится излагать неприятные для тебя факты. Не отрывая своих глаз от моих, он сказал мне правду, потом добавил, что таких, каким теперь стал я, много. Больше, чем мы думаем. И ничего. Не надо придавать этому особенное значение и отчаиваться.
Радости от того, что товарищей по несчастью у меня много, я не испытал никакой. Даже если бы половина земного шара были такими, я всё равно не утешился бы.
– В таком случае, я первым делом вступлю в добровольческий союз импотентов. Как вы думаете, есть такой?
Врач молчал. Он открыл правду и немного виновен. Ему остаётся лишь принять мои истерики. Профессиональный долг. Наши права и обязанности разделились. Я получал временный мандат на кликушества, а ему привалило счастье утирать сопли гвардии рядовому.
– Если не существует, можно будет организовать, – продолжал я, – думаю, это будет самая безвредная мужская организация. Как вам нравится такое название «Союз безвредных братьев?»
Он молчал.
– Время от времени можно будет устраивать тематические встречи воспоминаний «Когда я был мужчиной».
Я подумал, что мне от таких вечеров прока мало. Мне будет не так уж и много о чём вспоминать.
– Или вообразите пикантный диалог. «Вам какие сны снятся? Вы женщин во сне видите? Видите? Извините за нескромность, как вы с ними общаетесь? Ах, так? Да, мой друг, во сне нам везёт больше, чем наяву».
– А ты шутник. Я таких ещё не встречал. Здесь один по этой причине целый концерт устроил.
– Кто это, интересно?
– Был грузин.
– Тогда всё понятно, если грузин. Он, наверное, лучше меня знал, что теряет. Скажите, этот диагноз намертво?
– По правде, да.
– А исключения?
– Очень редки.
– Но всё-таки бывают?
– Очень редко. Я лично не встречал.
– А от меня что-нибудь зависит?
– Слишком поздно. Если бы на полгода раньше ты пришёл, может быть.
– Ну да, перед учениями. Тогда я был просто как жеребец на воздержании. Вы бы из меня сексуального суператлета сделали, не так ли? Скажите, хоть чуточку, самую чуточку я могу влиять? Вы же знаете, что йоги делают из своего тела.
– Если совсем чуточку, да если бы ты был йогом, тогда может быть. В психике полно чудес и исключений. Ты, Женя, не отчаивайся, бывает и хуже.
– Интересно, что? В юности я слышал о ком-то из таких пошутили, что он ложку привязывает. У вас есть специальные медицинские ложки на этот случай?
Он грустно улыбнулся. Другой на его месте дано выгнал бы меня. Мне жаль его. За какие грехи он должен мучить себя ради сопляка, который по глупости лез в пекло, и совсем не знал, что бывают исходы хуже смерти?
А хуже ли? Чего это я, в самом деле, в истерику закатываюсь?
Я спросил:
– Вы подскажете, где мне могут помочь? Всего лишь помочь, остальное я сделаю сам. Вы даже не подозреваете, сколько во мне энтузиазма. Чем чёрт ни шутит.
– Я дам тебе адрес моего товарища. И сам напишу ему.
На прощание он сказал:
– Я хочу, чтобы у тебя всё было в порядке. У таких ребят, как ты, всё должно быть в порядке. Я даже начинаю верить, что ты попадёшь в исключение.
– Спасибо. Охотно разделяю ваше мнение.
Товарищ, которого я нашёл, кое-что мне прописал, но всё без толку.
– Шанс остался, – сказал он. – Но всё в твоих руках. Верь в себя и лезь к женщинам. Может, и прорвётся. Дело это – тонкое и тёмное.
И что мне оставалось делать?
В одной книжечке я вычитал про американского миллиардера Гленна Тарнера. Его стремительный взлёт ошеломил даже видавших виды акул спекуляции. Толпы паломников осаждали дом счастливчика. Конечно, он выжига и пройдоха, каких свет не видывал. Но был в книжечке один моментик, который зацепил меня. Тарнер, объясняя магию своего успеха, любил демонстрировать огромные наручные часы. На них было выгравировано: «Гленну Тарнеру – лучшему в мире парню от Гленна Тарнера – лучшего в мире парня».
Верьте в себя!
Здорово придумал, бестия, что и говорить. Когда я читал эти строчки – это было после армии, я научился говорить про себя: «Женька, ты самый лучший в мире мужчина». Это началось с той самой секунды, как я сказал врачу: «Я разделяю ваше мнение», а не – «хочу разделить ваше мнение». Врач, может быть, и шутил, и. скорее всего, не верил. А я верил.
Это моя правда.
Три прошедших года пока не поставили меня в разряд счастливых исключений. Но я не считаю, что всё потеряно. Временами я чувствую что-то похожее на возвращение пятнадцатилетней юности, когда я зажигался от одной мысли о женщине. Я верю, что жизнь не даст мне отставки. Я всегда был у неё в любимчиках. Я очень люблю жизнь и никогда не жалел себя. Должна же она ответить взаимностью.
Я стараюсь жить так, как будто ничего не произошло. Даже наоборот. Мне очень приятно, когда кто-нибудь из однокурсниц шутливо грозит мне пальчиком: ну и бабник же ты, Горин! Хотя какой я бабник? В последний миг я увиливаю. Я боюсь переходить последний рубеж, разделяющий меня с женщиной. Этот страх мне мешает. Чтобы его победить, я должен ей все рассказать, но я никогда этого не сделаю. Я ведь не знаю, что получится. Я буду сражаться в одиночку… Я стараюсь оставаться самим собой, таким, каким помню себя до этого. Это даётся с трудом, а временами почти не даётся. Самое трудное, быть честным перед самим собой. Я всегда подозревал, что Дон-Кихот – это слёзы Сервантеса по собственному не состоявшемуся жизненному пути. Он смог остаться собой только в вымышленном мире, потому что в реальном его просто-напросто растоптали. И всё же он выкарабкался. Наверное, выкарабкаюсь и я, потому что, самое главное, я живу, пусть и под вымышленными флагами. Пока.
– Ты жалеешь, что дал мне прочитать?
– Не знаю. Никому другому не дал бы, а тебе… сам не знаю, зачем…
– Я тоже хочу быть откровенной с тобой.
– А ты разве не откровенна?
– У меня тоже есть тайна.
– Страшная?
– Тайна, в которой я боялась тебе признаться. А сейчас не боюсь. Я хочу, чтобы ты знал.
– Хорошо.
– Обними меня сначала, – шептала Илона, и горячим шёпотом обжигала щеки. – Крепче. А теперь поцелуй…
– Я думал ты не умеешь целоваться.
– А я и не умею. Я целуюсь так в первый раз.
– Неплохо для первого раза.
-Я всегда хотела, чтобы ты был моим мужчиной… чтобы ты делал со мной, то что делают мужчины с женщинами… я хочу быть твоей… я хочу тебя.
Такие дела. Надо что-то говорить.
– Я думал, у тебя ко мне чисто человеческая привязанность. Умственный интерес.
– Не прикидывайся, ты всё знал. Это во мне с самого первого дня, как я увидела тебя.
Я промолчал.
– Если бы ты в тот же день позвал меня, я позволила бы тебе всё.
Я снова промолчал.
– Я думаю только об этом.
– А все считают тебя платонической девочкой.
– Я не платоническая, это я сделала себя такой. Мне было лет семь, когда меня начало волновать эротическое. Иногда даже мучило. Я скидывала платье и трусики и разглядывала себя в большое зеркало. И даже использовала карандаш, воображая, что это мужская часть.
– А ты?
– Я научилась это подавлять. Это мне казалось низким, это надо преодолевать. Ещё я занималась этим…
– Онанизмом?
– Да.
– Я в детстве тоже этим занимался.
– Правда?
– Конечно, этим многие занимались. Но никто не говорит.
Я тоже избегал разговоров со сверстниками на эту тему. Заповедная территория. В ушах по сей день шелестит низкий материнский шёпот. Севшим голосом она то ли с изумлением, то ли с недоумением громко прошептала отцу: «А он уже шурует…» Я не расслышал, что ответил отец. Тайна замкнулась. Мне было шесть лет, я сразу догадался, кто и что «шурует». Я притаился в постели, прикинулся, будто сплю, и не знал, что же теперь будет, и заталкивал ладони глубже под живот. Материнский шепот и немое отцовское присутствие вогнали в меня трепетный ужас перед разоблачением.
– Значит, я не такая развратная, как думала?
– Я вообще-то думал, что ты святая.
– Ты разочарован?
– Скорее, потрясён.
– В плохом смысле?
– Я не подозревал, какое ты чудо.
– Я не святая. Ты даже не представляешь, чем я занимаюсь с тобой в воображении.
– А с другими?
– Нет, с другими нет. Ты первый, с кем я захотела этого. И единственный.
Беру паузу. Я изнурён услышанным.
– А ты не обращал на меня внимания.
– Неправда.
– Ну, в том смысле, что ты не видел во мне женщину. Как во многих.
– Я не хотел равнять тебя с другими. Ты особенная.
– Я обычная.
– Нет, ты необычная.
– У тебя постоянно увлечения. Что я могла сделать? Я читала всё про Пушкина, чтобы понять мужчин. И тебя. Может быть, всё так и осталось бы. Я научилась терпеть. А сейчас… Я поняла, зачем мы встретились. Во мне что-то изменилось. Я теперь другая, ты не поверишь… Сними с меня халат.
Я никогда не видел Илону без плавок и бюстгальтера. Я закрыл глаза.
В первый или второй институтский день мы, разгорячённые разговором, влетели в студенческую столовую. Три или четыре девчонки и трое нас – Сергей, Вовка и я. Эйфорический подъём. Почему? Да просто так: только что познакомились, юность, и непонятно что впереди. Семнадцать лет, представляете? Нам с Вовкой, правда, побольше. Перед нами с разносами наперевес выстроились несколько приземистых солидных тётенек. Они степенно переступали с ноги на ногу, буднично роняли приземлённые фразы. В жестах основательность, завершённость, флегма. И щебечущая стайка моих однокурсниц – воздушных, хрупких. И самая стройная – этакая веточка вербы – молчаливая Илона. Это были пятикурсницы, и говорили они не о фильме «Смешная девчонка», от которого мы медленно отходили, а о дипломных работах, о практике, о бухгалтерии, о том, что на вечер надо купить кефир и стиральный порошок. У одной грудной ребенок, у другой муж на заводе во второй смене. И взгрустнулось: неужели и наших девчонок через пять лет разнесёт, одолеет проза и погаснет романтический блеск в их глазах? Всё так и вышло.
Лишь Илона застряла в своей дюймовочной стати. И только длинные ровные её ноги словно выросли из детскости, наполнились упругой спелостью и от них веяло зрелостью.
Я не могу оценивать женщин с придирчивостью пресыщенных казанов, как породистых лошадей: круп, бедро, попка. Их уже не волнует неочищенная от инстинкта страсть. Они смакуют породу и стать, – воплощённое в женских пропорциях иносказание оргии. Почему я не видел в Илоне того, что открылось сейчас, – проекцию соблазна, от которого некуда скрыться, и чем отчаяннее сопротивляешься ему, тем вернее запутываешься в силках? Я не выдумывал для неё одежды, которые в вольных фантазиях стаскиваешь, как делал со всеми подряд, с кем ни встречался.
Я прикидываюсь удивлённым. Зачем? Кому врёшь? Ночь откровений, будь честен. Я-то всегда знал, что она – моя, стоит только протянуть руку. Может, потому и не протягивал, что избегал последующего бегства? Это страх.
Женщина рожает мужчину, и близость – это подобие нового рождения. Предчувствие близости сопровождается страхом. Наши гены помнят тот мир, в котором томились девять месяцев, помнят переход в земную юдоль, и не потому ли нас с необъяснимой силой влечет к истокам, на истинную родину, в женское лоно (какое не случайное совпадение: лоно – Илона?) – в воды материнской любви. «И объяли меня воды до души самой…». Вот они какие, эти загадочные воды пророка! А пережив этот страх, освободившись в искупительном взрыве сладострастия, мы возвращаем на родину гонцов, – свой сок, эликсир плодородия, зашифрованный отчёт о нас.
…– Надо, чтобы мои руки и губы были бесстыдными… ты не сердишься?.. Знаешь, мне совсем не стыдно…
Прокатилась тёплая волна, подхватила, понесла.
Тепло, горячо, жарко…
И эти губы, знающие, влажные, знойные, ищущие. И тонкие пальцы, вздрагивающие зрячие пальцы. Их вкрадчивое прикосновение, касание-знакомство. Они прохладны, как родниковые струи. Живительное касание мягкими, нежными пальцами. Они робки, но бесстыдны и упорны. Они крепки. И они подрагивают. Это дрожь. Не моя ли? Или это она вздрагивает? От неё исходит ожидание. Ожидание вести. Илона принесла в руках весть. Благую весть о воскресении подраненной плоти. И то, что сейчас она делает осмелевшими и бесстыдными пальцами, это пересказ, это распознание послания, направленного мне не через слух и зрение, а через осязание.
Весть. Она – вестница, весталка. Жрица любви. Богиня любви. Или просто Богиня. И просто любви. Бог и любовь – а ведь это одно и тоже. Кто жил без любви, тот не знал бога. Что же было со мной?
Горячее, жаркое и влажное пронизание. Откуда она знает и умеет это? Зачем книжной девочке умения опытной гетеры? Она ведь невинна и наивна! Может быть, потому, что она – женщина? Женщина, которая рожает мужчину. Да, женщина всё знает и умеет от рождения. Она всё ведает, разве она не ведьма? Обольстительная ведьма. Самая прелестная в мире ведьмочка уже в тебе, в твоей крови, она вошла в тебя, и ты меняешься. Это она тебя изменяет, и с тобой что-то происходит. Это превращение. Боже мой, она меня превращает! Во что? И ты не догадываешься? Дурак, – в мужчину…
…Илона прижалась щекой к моему плечу. Глаза её сияли.
И вдруг подкатил запоздалый страх. А если всё это рассыплется и исчезнет на моих глазах? Я задохнусь без доверия, которое прочитывал все годы в каждом её жесте, обращённом ко мне. Безосновательного, ни на чем не основанного доверия просто так. Потому что это была она, а это – я. Я, когда мне припекало, искал и находил её, чтобы убедиться вновь: доверие сохранено. И я мог верить самому себе. Это было как глоток чистого воздуха. Достоин ли я этого?
– Можно я тебя поцелую?
Я тебя люблю. Я сказал это или только подумал? Какое это имеет значение? Она ведь всё поняла.
На её губах еще сохранялся солоноватый привкус влаги, в которой несколько мгновений назад бились миллионы моих освобождённых от оков многолетнего заточения микроскопических копий.
– Ты будешь моей женщиной, сегодня или завтра…– шепнул я и вспомнил армейского врача.
– Всегда, – совсем тихо, но отчётливо и по слогам отозвалась она.
Иллюстрации:
студенческие работы дочери автора Софьи Красули,
(Ставропольское художественное училище).
© Василий Красуля, 2023.
© 45-я параллель, 2023.
