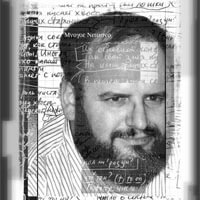Предел
В природе есть предел, и это не секрет.
Но если допустить, что некий общий свет
из тех краёв, где стынет беспредельность,
сочится в этот мир, за миллионы лет
проникнув в суть вещей и им давая цельность –
тогда действительности рокот непрерывный
мы можем прочитать, как строки книги дивной,
как беглой истины почти истлевший след,
как белых облаков на белом небе ряд;
мы можем записать, понять, перевести
произошедшее на огненном пути,
в той путаной сети иных координат,
не полагающей пределов и границ,
где бездны и миры вскипают и горят,
где наш бессмертием ошеломлённый взгляд
хранит наследие сияющих страниц.
Наш театр
Над маленькою сценой
метался чудный звук,
мгновений смысл бесценный
сливался в общий круг,
и сказанное слово,
летящее во тьму,
ошеломляло снова
внимающих ему.
Ушло, но не забыто,
а значит, не ушло:
ещё окно открыто,
ещё дрожит стекло.
Как сказки или гены
сквозь мглу прошедших лет –
былые мизансцены,
которым сносу нет.
Всё те же, и всё та же
на сцене суета –
король, и шут, и даже
все реплики шута.
Прочней орлов имперских,
превыше всех знамён –
тот отзвук песен дерзких,
что нами сохранён.
Всё было, всё известно,
и всё опять сильней –
заставленное тесно
пространство лет и дней;
пустеет наша сцена,
всему приходит срок,
и только неизменно
блаженство этих строк.
Не уберу страницу,
не вырву, не сотру,
уже остановиться
не хочется перу,
пускай же смотрят боги
Олимпа, как рука
ещё выводит слоги,
понятные пока.
Корфу
Есть уголок на карте мира,
где лимерик Эдварда Лира
граничит с греческой волной;
где бегал юный Даррелл рядом
с роскошным королевским садом,
бок-о-бок с крепостью двойной;
где нынче очередь за мной.
На Корфу время уловимо,
оно течёт меж древних плит,
пока на палубе дождит
и горы двигаются мимо.
Я благодарно узнаю
и образ огненного Крыма,
и облик нежного Гель-Гью.
Как много в памяти названий!
Я знаю эти берега,
и ткань таких воспоминаний
мне бесконечно дорога.
Календарь
Мой мозг живёт благодаря
тому, что повторяет снова
слова страниц календаря
настенного и отрывного,
и, повторяя содержанье
их оборотной стороны,
на ограниченное знанье
мы кажемся обречены.
Идя за линией отрыва,
я знаю: знание моё,
вскипев, перетекает живо
в бумажное небытиё.
Слова, блестящие, как стразы,
нашиты наспех на листы,
из них составленные фразы
прекраснодушны и пусты.
Но погляди насквозь, на свет
на перевёрнутую дату,
на гравированный портрет
и на зеркальную цитату –
и снова станет неизвестной
грань между вечером и мной,
взращённая в той строчке тесной,
на той страничке отрывной.
наверно
Наверно, не только же гены
издревле содержат в себе
обычаи и перемены,
возможные в нашей судьбе.
Мы, может быть, тем и хранимы,
что текст или даже строка
случаются переводимы
с исчезнувшего языка.
На острове, на острие
той башни из белого света
прочтёте посланье сие,
не требующее ответа,
как будто бы нам объяснили
насущную мудрость небес,
и, скачущий в облаке пыли,
дельфийский посланник исчез.
Остров Милос
Хорошо в Индо-Европе,
как сказал профессор Пропп;
оказавшись в хронотопе,
уважайте хронотоп.
Не достанет здесь никто нас,
здесь и слов, и мыслей копь;
не сразит жестокий Хронос,
не заманит Топос в топь.
Вижу ясно всё, что снилось
детской книжною зимой:
вот и входит остров Милос
в голос мой и в опыт мой.
Словно лодки в древнем Понте,
возникают острова,
в отдалённом горизонте
растворяются слова.
Где-то есть союз готовый
между вечностью и мной,
меж эгейской, бирюзовой,
безъязыкою волной.
Набегание её
я услышу, как своё,
сны прозрачные нанижу
на волнение её.
Корабли живописцев
1.
Здесь ежечасно ощутима
преувеличенного Крыма
альтернативная тропа;
метафизическая ясность,
странноприимная причастность,
неравновесная стопа.
Но, кажется, с недавних пор
нарушен древний договор
между реальностью и снами,
когда вздымается над нами
ошеломлённый океан,
и посейдоново цунами
крошит веков обсидиан.
2.
Смени на радужное «эль»
своё раскатистое «эр»,
построй на палубе модель
цветка или небесных сфер,
чтоб странствующая артель
держала кисти наготове,
рисуя грифонов и львов.
Мы знаем, что лежит в основе
некрепкой жизни островов.
Мы пишем ласточек в полёте.
Так, может быть, и вы поймёте:
в обызвествлённой толще лет,
среди событий неизменных,
действительности вовсе нет:
она – в цветах иных полей,
на нежных лепестках лилей,
изображаемых на стенах.
Оставляю
Валентине Синкевич
Оставляю на время те страны,
где с богами боролись титаны,
где разбросана суша руками
олимпийцев, по их законам,
чей язык неизвестен; где камни
устремляются вверх по склонам,
словно новых захватчиков орды.
Незаполненные кроссворды
оставляю на кресле в зале
ожидания, где строка
равномерно течёт, пока
номер рейса не объявляли.
Я лечу, как летал во сне,
подо мной плывут острова,
недоступное ранее мне
переделывается в слова.
Я отчитываюсь перед вами
свежесобранным языком
над последними островами
перед новым материком.
Дальние края
Вижу дальние края,
где на грани сна
география моя
изображена.
Каждый шаг неповторим,
каждый жребий скрыт,
каждый полуостров – Крым,
каждый остров – Крит.
Путь лежит в прозрачный фьорд,
где не видно дна,
где к скрижалям доступ стёрт
в лабиринте сна,
где на побережье дней
из кромешной тьмы
горсткой радужных камней
выброшены мы.
Ночная песня
Вот букварь передо мной:
в нём условленные знаки
тускло светятся во мраке,
как костры в ночи степной.
Там в котлах дымится вар
смрадных звуков речи вязкой,
жизнь мелькает в свете фар
позабытой страшной сказкой.
Но, по правилам игры,
вплоть до следующей мглы
там вращаются углы
ослепительного слова,
и асфальт пути земного
размягчится от жары,
сохранив мои следы.
Мы к назначенному сроку
соберёмся у воды,
пролегающей к востоку
на цветной блестящей вкладке,
там, в конце у букваря,
если будет всё в порядке
в первых числах января.
По эту сторону
Наш век размечен чуждой метой
по краю стынущего льда;
снов океан питался Летой,
где память смыта навсегда.
А из какой прозрачной пыли
летят сигнальные лучи –
нам всё равно, и мы забыли,
и снова азбуку учи.
Тире и точка, плюс и минус,
и алфавитные значки,
как древний мир, пройдут и минут,
не расширяя нам зрачки.
Но за полярными кругами,
куда вода не дотекла,
хранится отраженье в раме
по эту сторону стекла.
Частица
Уходящие часы
жизни яростной и хрупкой
не поставишь на весы,
не измеришь ртутной трубкой.
Не придумана шкала
из ай-кью или пэ-аша,
чтобы боль и радость наша
измеряема была.
Так частицы путь желанный,
отодвинув тьму и свет,
в тесной камере туманной
пролагает белый след.
Запись этого пути
мне хотелось бы найти,
где понятно, что мгновенный,
зыбкий мир, навстречу мчась –
нашей жизни сокровенной
только видимая часть.
Камень
Кто водит этою рукой?
Я сам вожу: я свой вожатый,
своей наивности глашатай;
я – камень, брошенный в покой
моих болот, в их свет и холод.
Мой мир на истины расколот.
Смотри: я падаю сквозь мрак,
где ни движения, ни звука.
Так говорит моя наука,
и я пишу, что это так.
Лучи
Вижу лунные дела
в трубку знойного стекла.
Нa лице её далёком,
освещающем меня,
в ожидании глубоком –
капли вечного огня.
Отпускаю луч подзорный,
и обратно на земле
мир бесстрастный, беспризорный
вижу в сдвинутом стекле.
На лугу его зелёном,
мигу беглому под стать
по заученным законам
будем плакать и плясать,
будем ахать и рыдать,
звёздный полдень наблюдать.
И тогда затихнут крики,
и у вечности в горсти
отразятся наши лики
в бездне Млечного Пути.
Носители
Я гляжу из-под очков
в сочетания значков.
Слабый след эпохи вьюжной,
бред опасный, толк ненужный,
трёп о том или о сём,
груды дел и сны дневные
на носители иные,
не спросясь, перенесём.
Кто откроет файлы эти –
правнуки или прадети,
или некий новый вид,
что земные наши звуки
через призрачные штуки,
сохранив, переменит?
Или тот потомок томный,
многоатомно-фантомный,
святоту свою храня,
игнорирует меня?
Где пою и где пирую
в брызгах древних языков,
мокрых водорослей сбрую
отведу с морских коньков.
В колеснице Амфитриты
совершая свой объезд,
знаю карту этих мест,
где сокровища укрыты,
где существ прозрачных друзы
в мелких лужицах лежат,
и нестрашные медузы
скользкой лавою дрожат,
а на камушках приливных,
исчезающих в воде,
виден след событий дивных,
не записанных нигде.
Февраль
Февраль тринадцатого года!
А я, смотри, преподаю
все ту же истину мою –
от Менделя до Гесиода.
Уже отрёкся Римский Папа,
а мы все пишем свой отчёт,
и дожидаемся этапа,
где Тибр обратно потечёт.
Пусть проволокою колючей
нам замотали мозг и взгляд;
все так! но мы на всякий случай
оглядываемся назад.
И будет дух в тенетах биться,
последний лист в печи спаля,
когда закроется страница
очередного февраля.
Мой мир
Произрастая из развалин
на зыбкой плоскости земной,
мой мир не кажется реален:
он не спрягается со мной.
В нём нет ни плотности, ни массы,
и бледен шрифт наборной кассы
и сочетания цветов;
мне неясна его дорога,
и к продолженью диалога
он оказался не готов.
Что нам сказать друг другу, право?
Что мне чужда его держава,
полозья, вставшие в пазы,
да старой истины азы?
А он вообще молчит веками,
и смысл его надёжно спит,
и солнце горными верхами
проходит, точно следопыт.
Так завари кантариону
(так по-болгарски зверобой),
и по заснеженному склону
иди за новою судьбой.
Она пока переводима
на вечный с нашего, пока
на свет окна, на запах дыма
ещё спешим издалека,
пока ещё иные дали
для нас привычными не стали,
как в те столетия, когда
свет был един со тьмой, вода –
с землёй, а мир был слит с огнём,
и мы не думали о нём,
и жить в нём не предполагали.
Иди туда
Иди туда, где тонет свет,
где рифм набор из детских лет,
где букв слежавшиеся глыбы
и слов щербатые ряды
встают беззвучные, как рыбы
среди темнеющей воды,
и что-то ползает на дне.
Там дышит в многослойном сне
многоголосица прилива,
а жизни мелкая вода
прозрачна и нетерпелива;
там все твои: иди туда.
Но путь вперёд в песке сокрыт,
как блеск пиратского дублона –
так наша память говорит.
Она к природе благосклонна,
но любит ложные итоги
и возвращается в места,
где некогда бывали боги,
а нынче правит пустота.
В пределах нашего холста
все нарисовано красиво,
отображает перспектива
всю иллюзорность глубины;
кому же мы в итоге скажем
идти туда, где за пейзажем –
побелка каменной стены?
А впрочем, червь подводный точит
свой мягкий камень известняк,
и может быть, судьба захочет,
чтоб всё закончилось не так,
и станет виден текст подводный,
иного типа мир природный
за царством нашей пустоты,
иные рамы и холсты.
И книг несметные завалы
в библиотечных сундуках
откроют грани небывалы
в ещё не найденных веках.
© Виктор Фет, 2011–2013.
© 45-я параллель, 2013.