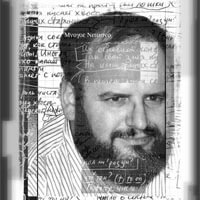Все стихи Виктора Фета
1825
привиделось ему в горячечном огне
что начинается нева со слова не
тогда в своём бреду очистив лёд от снега
о нега написал он озеро онега
но нега тоже с не! и небо тоже с не!
точней нельзя сказать чем видится во сне
господь сказал что пётр гранит его небес
не бес но и не бог не с богом и не без
когда из-подо льда покажется вода
быть может не невы изменится на да?
вскрывается ли лёд? скрывается ли рок?
Нева течёт вперёд. Пётр смотрит поперёк.
1978
1906
Ни звука над застывшею державой.
Забытый год. А ведь ещё не точка,
но точка с запятой; дана отсрочка:
одиннадцать свободных лет. Но тщетно:
уже не удержать повозки ржавой.
Взрывается клокочущая Этна.
Вот так и мы, столетие спустя,
не дав себе труда в наследстве вашем
достойно разобраться, резво пляшем
на корке льда над огненною лавой,
как умственно отсталое дитя.
Tакое кино
Нас не звали и нам не сказали,
и итогов не подведено;
свет зажгли преждевременно в зале,
где крутилось немое кино.
И поистине невероятно,
как могли мы на этом пути
неизбежно и немногократно
зародиться и произойти.
В отложениях окаменелых
воздух, пламя, земля и вода
отражения лет чёрно-белых,
исказя, схоронят навсегда.
Но и после всеобщего краха
на эмульсии всех кинолент
обнаружится нашего праха
пятый, вымышленный элемент.
Tекст
Лес густ, как миллионы копий,
Скудна кастальская струя,
И энтропии сладкий опий
Сочится в щели бытия.
Как текст, вздымается гора,
Как ствол, изогнут знак вопроса,
И каждым росчерком пера
Мы строй приносим в мир хаоса.
Но мир расходится по швам,
И в миллионы тонких трещин
Сочится свет, что был обещан
И нам, и звукам, и словам.
Анатомия растений
Ещё никто не брал в поэмы
Всей анатомии анналы,
Сосуды нежные флоэмы,
Ксилемы мёртвые каналы.
Тома и атласы листая,
Мы убеждаемся, что снова
Листа и корня жизнь простая
Предупреждает наше слово.
И гифы тонкой микоризы,
Как мифологии живой,
Таят волшебные сюрпризы
Вблизи системы корневой.
И их наследственные коды
В сплетеньи клеток и клетчаток
На философию природы
Накладывают отпечаток.
Ангелы
Очерчены границы сна,
но где-то власть не доглядела,
и к нам доходят имена
с той стороны водораздела.
И посетителям открыта
дорога в странные места,
где только пыль и пустота,
по выраженью Демокрита.
Но мы в надмирии забыли,
что именно из этой пыли
там, на окраине села,
творятся дерзкие тела.
И, как слова в моём рассказе,
частицы тел в потоках лет
рождают истинные связи
и прах преображают в свет.
И светит ярким хризопразом
любая планетезималь,
и демонстрирует Паскаль
тростник, в котором бьётся разум.
Хантингтон–Чарлстон
18 апреля 2009
Аптека и библиотека
Аптека и библиотека –
два чудных иностранных слова.
От египтянина и грека,
по волнам моря ледяного,
через пожары и пустыни,
через пороги и овраги
везут угрюмые варяги
чужое, странное добро –
и нам досталось серебро
фармацевтической латыни,
веществ лекарственные слитки,
судеб бесчисленные свитки,
свинцовые карандаши
да черные кристаллы иода –
и смотрит строгая природа
сквозь линзы тела и души.
Хантингтон
3 апреля 2009
Атлантида
Застыла времени стрела,
и односложные дела
и мысли однокоренные
уходят в заводи иные.
Февраль 15-го снежен,
он из ледовой крошки сложен,
и март, должно быть, неизбежен,
хотя почти и невозможен.
Давно раскуплены билеты
и на заоблачный круиз,
и на речной трамвайчик Леты,
идущий по теченью вниз.
А на какой по счёту Рим
вулкан подводный пеплом пышет –
кто сосчитает? кто запишет,
что ведаем и что творим?
Баллада
Из новых времён, из старинных земель,
Где слиплись в комок бытия карамель
И смысла безглазая маска,
Прискачет прекрасная сказка.
Там главный герой с медициной знаком,
Там сахарным звёзды сияют песком,
А снег – новогоднею ватой,
Над каждой трубою застыл трубочист,
И выглядит мир словно титульный лист
С виньеткою замысловатой.
Там слышен тамтам по дикарским лесам,
Полковнику снятся медали,
И алым дивятся своим парусам,
Где издавна их ожидали,
Там тучи ползут по альпийским снегам,
И все корабли пристают к берегам.
Там стражнику на ухо шепчет пароль
Из раннего Блока картонный король,
И кислого вкус витамина
Мешается с дымом камина,
И входят герои в свой пряничный дом,
Где жить полагается честным трудом.
Там жались игрушки к витринным огням,
И счёт не велся неутраченным дням,
Там вздрогнули Гензель и Гретель
От скрипа несмазанных петель,
И я поднимал, словно меч-кладенец,
На палочке свой петушок-леденец.
Баллада о машине времени
Вот странник создал аппарат золотой
С алмазной приборной доскою.
Окутан грядущих веков пустотой,
Он мчится столетий рекою.
И волны ему замечают: «Поверь,
Напрасно ты к нам отворил эту дверь:
В пучине, где пенятся кванты,
Не к месту твои бриллианты!»
И всадник нащупал свой атомный бич,
Пришпорил коня золотого:
«Не может быть так, чтобы мне не постичь
Основы устройства простого!
Я викторианский притом джентльмен,
И сложности вашего мира взамен,
Что б вы там себе ни гудели,
Создам из фанеры модели.
Пусть наши теории в целом просты,
Мы множество фактов набрали:
Мы в сердце живого открыли мосты
Двоякоподобной спирали.
Мы знаем, как солнце рождает цветок
В конфликте меж светом и тенью,
И Запад уже побеждает Восток
С его безобразною ленью».
И волны ему отвечают: «Дитя,
Машине хрустальные ручки крутя,
Ты время взмутил и пространство.
Нелепо твоё фабианство.
Слепого столетья посланник немой,
Ты падаешь в шахту колодца,
И огненный след за твоею кормой
За считанный миг разойдётся.
Но так уж и быть: в аппарате твоём
Мы смелость и наглость людей узнаём.
Так вот тебе компас и карта:
Вернёшься в мгновение старта.
И братьям своим отнеси эту весть –
Что мир за пределом поистине есть,
Но он не для вас (не в обиду
Будь сказано вашему виду).»
И странник вернулся, и жил среди нас.
Довольно успешно продал свой рассказ,
Добился в Стокгольме медали,
А больше его не видали.
Берег
На грани неба и воды,
где на песке твои следы,
ты понимаешь, будут смыты
сегодня, но тебе не жаль
своих следов; где литораль
и воздух порождают влагу,
а солнце чуждо злу и благу;
где каждый миг вмещает день,
а каждый день вмещает час
тех жарких мест; где столько дней,
песка и гальки, и камней,
и мыслей, и стихов для нас
прошло мгновенно – берег тот
изобрази на карте снова,
но отыщи такое слово,
где есть и разума полёт,
и чувства зной, и сна печальность,
и моря соль, и дней начальность,
и отражение в воде,
не ограниченной нигде.
Библиотекарь
Мы извлекаем знания из книг,
суперобложку бережно снимая,
закрыв окно, чтоб свежий воздух мая
в библиотечный сумрак не проник.
Здесь есть дорога к истине прямая,
которой не нашёл двадцатый век,
и вряд ли обнаружит двадцать первый,
скитаясь между Марсом и Минервой
в обход заброшенных библиотек.
Милюково
20 июля 2009
Быть может
Быть может, жизнь лишь служит фоном,
а мыслей трепет и разрыв
видны в нездешний объектив
в незримом круге освещённом?
А солнца свет над цепью горной
и жизни след в слоях земных –
эксперимент лабораторный
тех, кто живёт в мирах иных?
А всё, что мы считали здешним –
конспекты снов, когорты фраз –
подчинено законам внешним,
недоказуемым у нас.
Быть может, там, в среде холодной,
давно нашли предел природный,
на полный спектр разложен свет
и неизведанного нет?
В музеях будущего
Соединяет времена и страны
Заросшая, невидная тропа.
Нам не произойти от обезьяны
Опять – она уже глупа.
Впечатав шаг толпы в цементе плаца,
Мы пробежим по огненной земле,
Но будем вечно отражаться
В слепом, небьющемся стекле.
В музеях будущего – видите ли вы
Наш судорожный вдох в часы прилива,
Да шапку царскую, напяленную криво,
Да дерзких рифм неспрятанные швы?
(2001)
В полусне
Я вижу явственно, что в мире нет
и не было ни выбора, ни толка,
но ненадёжно пригнана защёлка,
и различим за ставнями рассвет.
В углу торчит неубранная ёлка,
я сочиняю умственный сонет,
а в телевизоре опять портрет
очередного фюрера унд фолка.
Зарыться снова в сон – но полусна
ткань расторможена, размягчена;
и гаснут очертания кристалла,
где виделись и замок, и река,
где записи исходные листала
тогда ещё усердная рука.
Ваза Дервени
(музей в Фессалониках)
Средь золотого винограда
Сидят застывшие они:
Сатир и спящая менада
На медном кубке Дервени.
Вином из кубка льются годы:
Менада спит, и снятся ей
Движенье звёзд, богов исходы
Эсхатологии моей,
Олимп бушующий, мятежный, –
Но взор закрыт менады нежной.
Душа, над Грецией кружи,
Пока менаде сладко спится!
Здесь многое ещё случится,
И Александра колесница
Ещё заложит виражи
И ослепительны и дики,
Ещё душа зайдется в крике…
Менада, спи: что ни приснится,
Всё выстоят Фессалоники.
Видение
Исследуя ходы и лазы,
отыскивая вход во тьму,
я восстанавливаю фразы
по манускрипту моему,
где мир заполнен опустелый,
где блещет вечный океан
у берегов Эллады белой
и Атлантиды безмятежной,
где цвет дает лилее нежной
её пигмент – антоциан.
Я вижу: смуглые пророки,
найдя к сознанию ключи,
заменят лунные лучи
на теллурические токи;
и в отражениях зеркал
эпоха древняя воскресла,
где, как Зевес, безумный Тесла
двойные молнии метал,
и над замерзшими лесами,
через долины и снега
между земными полюсами
легла пурпурная дуга.
И в отложениях земного,
мной восстановленного ряда,
в разводах мёда или яда
я слой за слоем назову:
сном, не привидевшимся снова;
мечтой, сгоревшей наяву;
звездой, сверкнувшей сквозь листву
давно заброшенного сада;
строкою, спрятанной на дне
среди потока ледяного, –
и крайний слой, хранящий слово,
не предназначенное мне.
14–18 февраля 2009
Хантингтон
Волна
Как знает точка, где она
на плоскости нанесена?
Послушны мысли геометра
и строчкам древнего труда,
тростник качается от ветра,
рябит остывшая вода.
Вообрази: из ничего
создать иное естество,
совсем другие имена,
и не из атомов и клеток,
а из музейных этикеток:
день, год, провинция, страна,
и кто собрал, в тени кленовой
каких исчезнувших угодий,
свой алфавит для жизни новой
приспособляя, как Мефодий.
А главное – из пустоты,
ошеломляющей и страшной,
поднять ушедшие черты
своей пометкой карандашной.
Такотступает боль тупая
и, прав не переуступая,
игрою быстрой и простой
моя волна на берег скальный,
далёкий и провинциальный,
ложится с нужной частотой.
Вообрази
Вообрази, что бесконечный путь
не существует; что концы с концами
не сходятся; что истинная суть
божественного спрятана жрецами
в швейцарский сейф... Я часто замечал,
что всё, что прежде делалось и пелось,
застыло и осунулось; и врозь
идут события; и мирозданья ось
есть некая уже окаменелость,
а вовсе не начало всех начал.
И звук не возникает на струне,
и Галилей взирает в небо втуне,
и юный Ньютон в английском июне
не пролагает тропочку ко мне.
И ангелов не видно на Луне.
Восемь минут
Звезда безумная, святая,
встающая в рассветной мгле,
своим сиянием питая
всё дышащее на Земле!
Едва твои огни сверкнут,
твои лучи ударят оземь,
но это занимает восемь
твоих божественных минут.
Свет, приходящий к нам извне,
рождается в твоём огне,
где выгорает звёздный прах;
летя навстречу океану,
пронзает хрупкий небосвод
и безвозмездно раздаёт
свою магическую прану,
которая в иных мирах
была бы нам не по карману.
Но расточительный и праздный,
самой звезде не нужный свет
готов источник жизни разной,
всего, что будет, есть и было,
питать на миллионы лет,
пока слепящее светило
сжигает раскалённый газ
и знать не ведает о нас.
(2008)
Встреча
Ветвятся трещины на ветхом потолке;
пространство с временем, два взрослых близнеца,
между собой на тайном языке,
двойняшкам свойственном, болтают без конца.
Непосвящённому в их странствия, с трудом
возможно мне понять, зачем и как
они вернулись в этот старый дом,
где жили в детстве; где разлуки знак
Галактикою светится в окне.
Как разделили их, неясно мне.
Где вырастали их просторы?
Кто дал пространству глубину и даль,
кто времени привил забвенье и печаль?
С кем в отрочестве разговоры
вели они, утратив двойника?
Как изменялись радость и тоска,
взращённые отдельно, в разных странах?
В чьих это было помыслах и планах?
Кто так решил? Кому достало власти
разъять неразделимое на части?
Век были врозь, а нынче снова
два близнеца сошлись в родном краю.
И я, незримый зритель, узнаю
из самых первых уст, а не из книг,
их жизнь, и тайны бытия земного
записываю в полевой дневник.
Второй Одиссей
Олимпийские боги, не скрою,
Развлекались мы в юности бурной.
Мы глядели в бинокли на Трою,
Мы качались на кольцах Сатурна.
Ахиллес пот со лба только вытер,
Зачитавши бойцам манифесты:
Комиссаром назначен Юпитер,
А щиты – это дело Гефеста.
А поручик Улисс, без махорки,
Всё на запад стремился, к заходу.
Шлем ахейский в музее, в Нью-Йорке,
Обозначен «предмет обихода».
Мёртв язык египтян да ацтеков,
Растворилася их ДНК.
Разбросало нас по свету, греков,
Но остался язык на века.
Были боги охочи до драки,
Обсуждая жену Менелая,
И землёю покроется Троя,
Но три тысячи лет на Итаке
Всё звенит тетива удалая,
Ударяяся в грудь Антиноя,
Удаляясь ударной волною…
Галилей
Уже направлена труба
над итальянскими холмами
на горсть Юпитеровых лун*.
Четыре буквы древних рун,
светясь, вращаются над бездной
совместно с прочими камнями
в своей Флоренции небесной.
Какая странная судьба:
мы выбираем варианты,
а варианты правят нами.
И мне иные алфавиты
и неизвестные квадранты
на бархате небес открыты,
как ювелиру бриллианты.
И я запомню эту дату,
когда для славы или мзды
я посвятил аристократу
четыре новые звезды.
Уймётся буря волн житейских,
истлеют строки наших книг,
но звёзд сиянье Медицейских
не потускнеет ни на миг.
В них, верно, память крепко спит,
а наша жизнь для них странней,
чем нам вращение орбит,
перемещение камней.
---
*Каллисто, Ио, Ганимед, Европа. Открыты Галилеем в 1610 году.
Названы «звездами Медичи» в честь флорентийского герцога.
Глаголы
Как на звуках замешать
всё, чем хочется дышать?
Как собрать глаголы в срок,
как связать охапки строк?
Как, не путаясь, пройти
по заросшему пути?
Где искать следы огня,
опалившего меня?
Как в словах запечатлеть
то, что будет греть и тлеть?
Хоть на четверть, хоть на треть –
как суметь не умереть?
(2006)
Глоток
(Памяти Игоря Северянина)
Недавно ещё трепетала струна,
и старому барду внимала страна,
а нынче от грёзы леса и моря
очнулись под властью иного царя.
Всё выиграл он, что поставил на кон,
и в замке у моря создал свой закон
о том, что земля, и огонь, и вода,
и воздух закрыты теперь навсегда.
Но к воздуху доступ имели пажи,
и юный один для своей госпожи
в фиале прозрачном воздушный объём
похитил и спрятал на сердце своём.
И вертится шар – тот, что был голубым,
и страх несравним со столетьем любым,
ведь воздух с водою навеки ушли,
и больше не стало огня и земли.
Но где то в подвале, светясь и дрожа,
в стеклянном сосуде, в каморке пажа,
ушедших молекул старинные сны
хранятся в развалинах нищей страны.
Быть может, иссякнет кровавый поток,
и древнего воздуха чистый глоток
к потомкам придёт через тысячу лет,
как старого барда прощальный куплет.
Глюк
Es gibt keinenWeg zum Glück.
Glücklichsein ist der Weg.
Gautama Buddha
Истекает мрачный век,
есть у века кайнен вег,
нет у века больше тайн,
ноу вэй цум глюклихзайн,
перекрыты все пути,
надо ворона найти.
Лошадь моет красный конник,
заварю себе лимонник,
кот залез на подоконник,
вот и ворон тут как тут:
черти ворона несут.
Велком, велком, мистер ворон,
нам известен с давних пор он,
мы продолжим старый спор:
я читал в живом журнале,
как на прошлом биеннале
ты молол учёный вздор,
вредный и ненужный вздор.
Каркни, ворон, из Эдгара,
мастер чёрного пиара,
каркни с нами заодно,
что планета перегрета,
что предвидится комета,
что забвенье ждёт поэта,
всё мы видели в кино;
знаешь, ворон, вам, пернатым,
вроде бы не виноватым,
тоже сгинуть суждено;
вот такое, брат, кино.
Говори же, ворон-птаха;
по тебе не плачет плаха,
так скажи, ради аллаха,
что погубит этот свет?
Каркнул ворон: «Интернет!»
Из-за дымовой завесы
не спеша выходят бесы,
огнемёт наперевес,
прикрывающий прогресс.
Где же этот самый ворон?
Глянь, присел на монитор он
и уставился в упор,
и глядит без разговора,
как мелькает духов свора,
и без карканья, без ора,
вечно смотрит с этих пор,
смотрит ворон в монитор.
Греция
Рыдая, радуясь, робея,
Иду долиной Эниппея,
И сердце Греции самой
Мне шепчет: «ты пришёл домой».
Летя стремительно сквозь годы,
Не тронь хрустальных рычагов!
Почуяв дым от очагов,
Войди в одну и ту же воду!
От олимпийского чертога
Спустившись, тайных туч гряда
Легла торжественно и строго,
И потемнели города.
Стоят унылые громады,
Их ноша вечна и легка,
Как мрамор под стопой Эллады,
Как зовы нимф у ручейка.
Давно
Давно уже привыкли
молчать о том, что мы
из пустоты возникли
среди кромешной тьмы;
где нам открыли очи,
и, слово сохраня,
создали дни и ночи
из млечного огня.
Давно уже забыли
первичный свой наказ,
когда из звёздной пыли
слепили наш каркас,
и много лет из вечной
стихии естества
слагались в ритм беспечный
волшебные слова.
В дороге однократной
не встать и не сойти,
не взять билет обратный,
не изменить пути;
что было нам открыто,
что было в нас дано –
ушло и позабыто
надёжно и давно.
Дальние края
Вижу дальние края,
где на грани сна
география моя
изображена.
Каждый шаг неповторим,
каждый жребий скрыт,
каждый полуостров – Крым,
каждый остров – Крит.
Путь лежит в прозрачный фьорд,
где не видно дна,
где к скрижалям доступ стёрт
в лабиринте сна,
где на побережье дней
из кромешной тьмы
горсткой радужных камней
выброшены мы.
Две песни к спектаклю «Ревизор»
1. Песня Городничего
Из Петербурга с нарочным приходит нам письмо,
покрыв нас несмываемым позором –
пятно невыводимое, горящее клеймо,
проставленное адским ревизором.
Откуда взялся Хлестаков? Пуст, как прореха у портков,
как тополевый пух, белёс и легковесен,
провинциальных простаков освободил он от оков,
он фантастических напел нам чудных песен.
Откуда взялся Хлестаков? Влетел, взвихрил, и был таков –
как можно втюриться в такого охламона?
Но простофильству нет конца – есть простота на мудреца,
хотя бы и на самого на Соломона.
Что за чертою огненной? Какой нам текст учить?
В какой карман нам лезть за новым словом?
Сумеем ли мы вовремя чертёнка отличить,
что обернётся новым Хлестаковым?
Из Петербурга, может быть, не то ещё придёт –
и что взбредёт там в ум какого драматурга?
Шутя пройдет столетие, и новый век грядёт,
как настоящий ревизор из Петербурга.
2. Менуэт
Carpe diem, carpe diem –
день лови, пока светло.
Новый век наступит Вием –
все дороги замело.
Жив покуда, празднуй, ибо
нам жестокий жребий дан.
Как называлась эта рыба?
Ла-бар-дан.
На Европу рот разину –
ни стыда, ни смысла нет.
Голова летит в корзину
у Мари-Антуанетт.
Либо гильотина, либо
эмигрантский чемодан.
Как называлась эта рыба?
Ла-бар-дан.
Пусть печальна песня эта,
но затеплится восход,
и под звуки менуэта
ночь лоскутная сползёт.
За внимание спасибо,
закрываем балаган.
Как называлась эта рыба?
Ла-бар-дан.
Дедал
Наверное, какие-то детали
мы не учли. Так в детстве мы взлетали
в сияющую мысль в блаженстве сна,
где нам была Вселенная видна.
И капал мягкий воск на горы Крита,
и кони Солнца мчались на закат,
и через Океан стремился взгляд
в ту, Западную, Индию – она
в то время не была ещё открыта.
Нам остаются буквы алфавита –
но Гелиоса заходящий след
и Королевы Снежныя чертоги
не сохраняют мудрость прошлых лет.
Я думаю, что так хотели боги;
другого у меня ответа нет.
Детская песня
Основатель нам оставил
сотни глиняных таблиц
с описаниями правил
для молекул и частиц,
правил для души и тела,
для последствий и причин,
для разумного предела
всех доступных величин.
Но останутся секретом
те, иные берега,
омываемые светом,
где земные наши страсти –
только ёлочные сласти
да блестящая фольга.
30 января 2009
Хантингтон
Дневник Берга
1.
Рассматривая поры и каверны,
я отделяю пустоту от света,
пролистывая записи свои.
Заворожённый свойствами предмета,
я очищаю истину от скверны
и разбираю древние слои.
В прогрессе человеческого рода
я вижу очевидные следы
не просто генетического кода,
не только окружающей среды,
но третий фактор, третий компонент:
эмульсия несмытых кинолент;
немыслимое пиршество для глаза;
суть воздуха, огня, воды, земли –
сокровища, достойные рассказа,
под микроскопом Берга расцвели.
2.
Что ж я открыл, о чём ни Карл фон Бэр,
ни Шванн, ни Шлейден не подозревали?
В особо отшлифованном кристалле
какой расшифровал античный свиток?
Каких достиг мельчайших, дробных сфер,
структур и отложений? Что нашёл
я в дымной глубине застывших смол,
янтарный миллионолетний слиток
просверливая огненным лучом,
как будто в некий рай своим ключом
дверь открывая?..
Сотни мелких меток,
подобно тем, что шьются на бельё,
сидят в основе всех существ и клеток,
сплетя сознание и бытиё.
В кавернах наших душ живут частицы,
создания бездонной глубины,
возничие всемирной колесницы,
хранители невидимой страны.
Они древнее клетки и кристалла,
первичнее клетчатки и белка;
их мудрость жизнь ещё не перестала
копировать рукой ученика.
Я это всё здесь говорю к тому,
что эти-то создания и дали
толчок исходный нашему уму.
(Я опускаю многие детали).
3.
Иначе говоря – свернув с дороги,
где всё решают гены или боги,
я продираюсь сквозь густой репей
на пустырях теории; и снова
в строении наследственных цепей
я чувствую присутствие чужого,
текучего и древнего ума,
наличие особого клавира – как будто бы история сама
осела плёнкой на основах мира.
Как на музейном дивном полотне,
мне виден результат её работы:
на сдвоенном хрустальном волокне,
идущем через радужные соты,
есть сонм частиц, плетущих нерв и мозг,
вбирающих энергию и время,
так пчёлы мёд упрятывают в воск,
так сладкий плод в себе содержит семя –
и эти обитатели как раз,
похоже по всему, создали нас.
4.
Что скажут обо мне через пятьсот
унылых лет? Допустим, так: «Отверг
наш мир естествоведческую веру.
Теперь река забвения течёт
размеренно. И прутик лозоходца
носить приятней, чем всю жизнь бороться
за истину. А вот аптекарь Берг
пытался утвердить свою манеру
анализа и синтеза, но зря:
у нас настала новая пора;
нам лучше жить, не зная, не смотря,
не думая; реторты и пера
труд не для нас; на миллионы лиг
давно уж нет ни опытов, ни книг.
Живём мы без срывания личин,
зато обходимся без зуботычин,
наш мир крупнозернист и холистичен,
не надо в нём искать первопричин», –
такой вердикт они произнесут.
А я, когда бы призван был на суд
потомков, копошащихся под гнётом
эмпирики, в их Эмпиреях квёлых –
рассказывать о поисках чудес,
о призрачных, немыслимо тяжёлых,
забытых временах; о том, как лес
провербиальный нам из-за стволов
увиделся – не стал бы. Мой улов
вытаскиваю я на дикий брег,
не пользуясь вниманием коллег.
5.
Коллег, признаться, не имею я.
Коллега в нашем веке есть калека:
в обозе у медлительного века
галдят они, как стая воронья,
а то ещё, как чайки или крачки,
когда у нищей лодки рыбака
они слетятся в поисках подачки,
пока сильна дающего рука.
Мне не противно званье мизантропа;
мне кошелька не выдаст меценат;
мой мир – под светлым кругом микроскопа,
в скрещении иных координат.
Там – новый, смелый мир, уже привычный;
частицами взволнованного света
он выгравирован, как ширь морей
вспенённая, ярящаяся; личный
мир, скрытый позади моих дверей;
мой мир натуралиста и поэта.
A что сказал бы Левенгук, мой брат
по цеху? Он-то точно был бы рад.
6.
Так я, Карл Людвиг Берг, аптекарь в Риге,
произношу вердикт в амбарной книге,
как акванавт, достигнув глубины.
Здесь вечности слoи застеклены.
На полках мириад моих флаконов,
с ретортами и вытяжкою рядом,
доказывает подлинность законов,
которые аптекарь Берг постиг
не от профессоров и не из книг,
а собственным умом и цепким взглядом.
И всякий, кто откроет мой дневник,
готические буквы разбирая,
поймёт, конечно же, что я проник
в преддверия утраченного рая –
который есть не выдумка, не миф,
не обещание посмертной веры,
хранимое в чулане про запас, –
а память. Может быть, её открыв,
теперь мы станем лучше. Ведь для нас
имеют смысл старинные примеры.
Дорожная песня
Пою опасности и опечатки,
которые, волнуясь и ветвясь,
с пустотами в испытанном порядке
настойчиво настраивают связь.
Что, если этой музыкой отдельной
спеть о бессодержательной, бесцельной,
бесценной силе, не подвластной дням,
что метроном отсчитывает нам?
Легко, на джипе в мареве предгорий
пыля, следить за сетью рудных жил,
да полагать в тиши лабораторий,
что знаем суть и цель природных сил.
Видны следы, оставленные швами
былых времён, и кажется с руки
обманчиво пригодными словами
картировать свои материки.
Жизнь
Дитя закона и удачи
из докембрийской глубины,
сложилась так, а не иначе,
жизнь, чьи движения взрывны,
чьи наблюдения бесценны,
чьи силы вечно к силам льнут,
чья песнь рождается из пены
минувших мыслей и минут,
чей голос слышен за версту,
чей вход открыт в краю зелёном
едва теплящимся фотонам,
преодолевшим пустоту.
26-27 июля 2010
Лондон
За сценой
Я в который раз во сне возвращаюсь в дом,
где созвездия светятся над головой,
где тележка, гружёная битым льдом,
громыхает по булыжнику мостовой:
это помреж за сценой изображает гром.
Я в дельфийском амфитеатре опять стою,
как в одной из привычно разверзнувшихся кальдер,
в разорённой палате чужих весов и мер,
повторяя давно забытую строчку свою
о гармонии неких небесных сфер.
Остывает вулканическая зола
и прессуется в мягкий туф за много лет,
мелкий гравий и пыль заносят плоскость стола,
но привычная боль на мгновение в землю ушла:
это помреж за сценой переключает свет.
Знаки
1
Знаем формулы и знаки,
иероглифы и руны.
Помним Рим по фильму «Даки»
да Олимп по «Мифам» Куна.
Как на камне из Розетты
на столе Шамполиона,
видим строгие сюжеты
электрона ли, иона.
Овладевшие азами
кислорода и азота,
смотрим жадными глазами
в ниши дзена, в щели дзота.
2
От Венеции до Вены
мудро правят наши гены,
их строительные блоки
пьют живительные соки.
Что им герцоги и дожи,
императорские ложи,
наши маски да кресты,
карнавальные шесты?
Что там, в створках их молекул,
в цвете выцветших чернил –
ни пророк не докумекал,
ни Господь не сохранил.
Иванушка
«Не пей из козьего копытца, –
грозится умная сестрица, –
не то обрушится беда»,
Но далеко до родника.
А на краю солончака
копится долгими годами
в грязи, истоптанной следами,
мутаций мутная вода.
Там жизнь свои бросает споры
в микроскопические поры,
в пустые полости песка,
где меркнет свет, и смерть близка.
Вот путь Алёнкиного братца:
рассыпаться и вновь собраться;
в глубь бытия, не в глупых коз
направлен мой метемпсихоз.
Сквозь тел горящий лепрозорий
пройдя каналами латрин,
я царь червей и инфузорий,
я бог фотонов и нейтрин!
Пусть я потомок обезьяны,
я вижу дали осиянны,
летя по линии луча;
я дружен с силою земною,
и вся природа, как парча,
расстелится передо мною!
Мне виден вызов жизни новой,
веществ просторные ряды,
и жёсткий луч звезды суровой,
и шок отравленной среды.
И я растаю и остыну,
как песнь в ночи, как угль костра –
и ты тогда войди в картину,
и сядь на берегу, сестра.
И снег сойдёт, и в запах прели
легенда новая моя
вольётся ручейком свирели
в метаболизме бытия.
Иди туда
Иди туда, где тонет свет,
где рифм набор из детских лет,
где букв слежавшиеся глыбы
и слов щербатые ряды
встают беззвучные, как рыбы
среди темнеющей воды,
и что-то ползает на дне.
Там дышит в многослойном сне
многоголосица прилива,
а жизни мелкая вода
прозрачна и нетерпелива;
там все твои: иди туда.
Но путь вперёд в песке сокрыт,
как блеск пиратского дублона –
так наша память говорит.
Она к природе благосклонна,
но любит ложные итоги
и возвращается в места,
где некогда бывали боги,
а нынче правит пустота.
В пределах нашего холста
все нарисовано красиво,
отображает перспектива
всю иллюзорность глубины;
кому же мы в итоге скажем
идти туда, где за пейзажем –
побелка каменной стены?
А впрочем, червь подводный точит
свой мягкий камень известняк,
и может быть, судьба захочет,
чтоб всё закончилось не так,
и станет виден текст подводный,
иного типа мир природный
за царством нашей пустоты,
иные рамы и холсты.
И книг несметные завалы
в библиотечных сундуках
откроют грани небывалы
в ещё не найденных веках.
Ионическое море
Не опишешь словесами
то, что правит небесами,
не придумаешь в уме
то, что зиждется во тьме.
Пролистаю, не читая,
череду начальных глав,
где частиц исходных стая
разлетается стремглав.
Этот текст силён и скучен;
разум мыслить не обучен
на бездонном языке;
я лежу, избит и скрючен,
на твердеющем песке.
Я взираю в пропасть мира,
я смотрю вперёд и вниз,
как на острове Керкира
исстрадавшийся Улисс.
Потешаясь надо мною,
правоту мою кляня,
посейдоновой волною
смыло с памяти меня.
В царстве мудрого феака
тишина и благодать,
знак обучен форме знака –
но мне нужна моя Итака,
и до неё рукой подать.
Боги! я ещё живой!
Растворяясь в древней влаге,
я стою в последнем шаге
от черты береговой.
История
1.
Истлеют книг привычные листы,
обрушатся тиранов обелиски,
в прах обратятся лазерные диски,
но сохранятся тонкие пласты
спрессованного времени, пород
осадочных, остаточная вера
в нетленных идеалов торжество,
на дно миров осевший кислород,
вода и соль, и хлор, и гипс, и сера,
бактерии – и больше ничего.
2.
Не говори: история мертва:
во тьме веков, в глуби тысячелетий
не из глаголов, а из междометий
слагаются великие слова,
обрывки документов, стружки фраз,
отдельный звук, оброненное слово –
тот вечный шум, что отличает нас
от ровных колебаний неживого.
Среди обломков, вросших в седимент,
среди остатков едоков и снеди –
шум наших фраз и есть тот монумент,
что выше пирамид и крепче меди.
Источник
Нас не останется – однако,
Нас, ископаемых, найдёт
Сквозь миллионолетний лёд
Потомок в пойме Потомака.
Употребив алмазный бур,
Он вытянет тугие керны
Из радиоактивной скверны
Разрозненных культур-мультур.
Как мы сжигаем уголь древний,
Так новый тот космополит
Наш слой событий ежедневный
В печи космической спалит.
Ведь всё, что было до потопа,
Все наши мысли и дела
Для них – источник изотопа,
Чтоб их история цвела.
Итоги
Будет так: настанут годы,
и привычные черты
узнаваемой природы
рухнут в пропасть пустоты.
И пускай ещё не скоро,
но уйдут на склоне дня
удаль мысли, ткань узора
и безумие огня.
Но итоги наших знаний,
позабыв старинный свет,
будут ждать иных созданий
через бездну темных лет.
Пусть же светят им без света,
согревают без тепла
всплеск мелодии, что спета,
радость жизни, что была.
Календарь
Мой мозг живёт благодаря
тому, что повторяет снова
слова страниц календаря
настенного и отрывного,
и, повторяя содержанье
их оборотной стороны,
на ограниченное знанье
мы кажемся обречены.
Идя за линией отрыва,
я знаю: знание моё,
вскипев, перетекает живо
в бумажное небытиё.
Слова, блестящие, как стразы,
нашиты наспех на листы,
из них составленные фразы
прекраснодушны и пусты.
Но погляди насквозь, на свет
на перевёрнутую дату,
на гравированный портрет
и на зеркальную цитату –
и снова станет неизвестной
грань между вечером и мной,
взращённая в той строчке тесной,
на той страничке отрывной.
Камень
Кто водит этою рукой?
Я сам вожу: я свой вожатый,
своей наивности глашатай;
я – камень, брошенный в покой
моих болот, в их свет и холод.
Мой мир на истины расколот.
Смотри: я падаю сквозь мрак,
где ни движения, ни звука.
Так говорит моя наука,
и я пишу, что это так.
Кассини
Открыв, как зимнее окно,
безумной кисти полотно,
запечатлей для нас, Кассини,
над злыми лунами полёт:
невыдуманные пустыни,
замёрзший ад, безводный лёд.
Я вижу всё, что видишь ты
в краю печальном и суровом;
я пробую приблизить словом
непредставимость пустоты;
принять, как принимаю свет,
свидетельства безмолвных лет.
Кто мерит время в том краю
без сроков, без воспоминаний?
Я бесконечность расстояний
не чувствую, не сознаю;
нет в языке такого слова.
Но твой, Кассини, долгий взгляд
сквозь пустоту и вечный хлад
добавлен к памяти земного.
---
Примечание автора: «Кассини» – космическая станция-зонд,
с 1997 по 2007 совершившая беспримерные облёты
Юпитера и Сатурна и их многочисленных спутников.
Корабли живописцев
1.
Здесь ежечасно ощутима
преувеличенного Крыма
альтернативная тропа;
метафизическая ясность,
странноприимная причастность,
неравновесная стопа.
Но, кажется, с недавних пор
нарушен древний договор
между реальностью и снами,
когда вздымается над нами
ошеломлённый океан,
и посейдоново цунами
крошит веков обсидиан.
2.
Смени на радужное «эль»
своё раскатистое «эр»,
построй на палубе модель
цветка или небесных сфер,
чтоб странствующая артель
держала кисти наготове,
рисуя грифонов и львов.
Мы знаем, что лежит в основе
некрепкой жизни островов.
Мы пишем ласточек в полёте.
Так, может быть, и вы поймёте:
в обызвествлённой толще лет,
среди событий неизменных,
действительности вовсе нет:
она – в цветах иных полей,
на нежных лепестках лилей,
изображаемых на стенах.
Корфу
Есть уголок на карте мира,
где лимерик Эдварда Лира
граничит с греческой волной;
где бегал юный Даррелл рядом
с роскошным королевским садом,
бок-о-бок с крепостью двойной;
где нынче очередь за мной.
На Корфу время уловимо,
оно течёт меж древних плит,
пока на палубе дождит
и горы двигаются мимо.
Я благодарно узнаю
и образ огненного Крыма,
и облик нежного Гель-Гью.
Как много в памяти названий!
Я знаю эти берега,
и ткань таких воспоминаний
мне бесконечно дорога.
Кто?
В чьём сознании живу
я в потоке непрерывном?
Кто выдумывал канву,
расшивал узором дивным?
На краю какого дня,
в глубине какого края
кто придумывал меня,
поощряя и карая,
расправлял мои крыла,
разливал по формам сплавы,
разминал мои суставы,
разбирал мои дела?
Если жизнь идёт не вне,
а внутри какой-то схемы,
не запомнившейся мне,
эти строки и поэмы,
эти скудные слова
держат ум едва-едва,
как прищепкой бельевою;
над моею головою
хлещет мира простыня, –
кто придумывал меня?
Лета
Серебряная Лета,
Забвения река!
С иного края света
Бежишь издалека.
Вбираешь пыльны томы,
И годы, и простор,
Державинские громы
И пушкинский задор.
Вода прозрачна летья,
Студён летейский хлад,
Двадцатого столетья
В тебе остынет ад.
Сквозь нас событий сила
Продёргивает нить,
Чтоб всё, что есть и было,
Запомнить и забыть.
Исчезнем без остатка,
Погрузимся в твои
Придонного осадка
Замёрзшие слои.
И новых дней геолог,
Познав добро и зло,
Твоих слоёв осколок
Уложит под стекло.
(2002)
Линней
И человек, и лемминг, и трава
имеют имя, милостью Линнея, –
блестящие, латинские слова.
Эпитеты нанизывать умея
на связки грамматических корней,
со списками в руках бродил Линней
по чистым огородам и садам
холодным летом в королевстве шведов,
все травы называя, как Адам.
Безмолвие полуночных пустынь
Лапландии объездив и изведав,
Линней не забывал свою латынь.
Работал он в пределах тех же линий,
что завещали нам Платон и Плиний.
Прилежную природу естества
он понимал, и общий знаменатель
он отыскал для трав, зверей и птиц:
их имя (форму, суть). Когда б Создатель
нас мастерил без видимых границ,
одним мазком, не уточнив детали
(цвет глаз, размер, кому годимся в корм),
мы все бы, не имея точных форм,
переливались и перетекали
из маски в маску. Жизнь была б легка.
Но мир отлит в ином материале,
и постоянна форма у цветка,
какие пчёлы бы ни посещали
его тычинки. Личность, суть, идея –
их помнят и лопух, и орхидея.
(1999)
Лист
Я говорю, что лист – резной,
ты говоришь, что лист – зелёный,
не соглашаешься со мной.
В долине, светом напоённой,
у самого подножья гор,
на фоне гаснущего лета,
я думаю, что этот спор –
не ради формы или цвета.
Через миллионы лет
потускнеет всякий цвет,
но прочтут в краю ином
свет волны в листе резном.
Всё, что было, всё, что есть,
формирует нашу весть.
Через пропасть, через край
руку дай, надежду дай.
23 апреля 2014
Луч памяти
Вот еле видимая птица
в небесной высоте своей
над нашей башннею кружится
и над просторами морей.
Здесь мысли досками забиты,
слова волшебные забыты,
я перестал летать во сне,
и звуки на моей струне
мне нравятся, но не вполне.
Когда же некий избавитель
затеет всех событий нить
переписать и сохранить,
изобретя такой носитель,
кристалл, таинственный металл,
чтоб звуков и речей сигнал
луч нашей памяти догнал
и растворяться перестал –
тогда известны станут мне
все сёла, города и нивы,
все сновиденья прошлых лет,
как этой птице в вышине
известны тропы и обрывы
и белый кратер на Луне –
но мы, как говорил поэт,
нелюбопытны и ленивы.
Лучи
Вижу лунные дела
в трубку знойного стекла.
Нa лице её далёком,
освещающем меня,
в ожидании глубоком –
капли вечного огня.
Отпускаю луч подзорный,
и обратно на земле
мир бесстрастный, беспризорный
вижу в сдвинутом стекле.
На лугу его зелёном,
мигу беглому под стать
по заученным законам
будем плакать и плясать,
будем ахать и рыдать,
звёздный полдень наблюдать.
И тогда затихнут крики,
и у вечности в горсти
отразятся наши лики
в бездне Млечного Пути.
Малая Азия
Краем моря кони скачут,
На горах играют в нарды.
Под луной гиены плачут,
Молча ходят леопарды.
Прошуршат в рогозе змеи,
От ручья запахнет илом;
Улыбаются Цирцеи
Одиссеям и Ахиллам.
Дай нам шанс – и мы смогли бы –
Понт Эвксинский – ус гусарский…
В глубину уходят рыбы,
Тонет, тонет перстень царский…
Мальбрук-2014
Мальбрук в поход собрался
Под колокольный звон,
Никто не знает,
Куда стремится он.
Нефтью богаты шельфы,
Поступь его легка,
Гоблины или эльфы
Просят ввести войска.
Мальбрук сидит на троне
В ржавеющей броне,
В отдельно взятой зоне,
В шизеющей стране.
Песня апреля спета,
Времени больше нет,
Четырнадцатое лето
Жарче прошедших лет.
Мальбрук в поход собрался,
Съел по дороге Крым,
Никто не знает,
Что делать с ним.
8 апреля 2014
Мой мир
Произрастая из развалин
на зыбкой плоскости земной,
мой мир не кажется реален:
он не спрягается со мной.
В нём нет ни плотности, ни массы,
и бледен шрифт наборной кассы
и сочетания цветов;
мне неясна его дорога,
и к продолженью диалога
он оказался не готов.
Что нам сказать друг другу, право?
Что мне чужда его держава,
полозья, вставшие в пазы,
да старой истины азы?
А он вообще молчит веками,
и смысл его надёжно спит,
и солнце горными верхами
проходит, точно следопыт.
Так завари кантариону
(так по-болгарски зверобой),
и по заснеженному склону
иди за новою судьбой.
Она пока переводима
на вечный с нашего, пока
на свет окна, на запах дыма
ещё спешим издалека,
пока ещё иные дали
для нас привычными не стали,
как в те столетия, когда
свет был един со тьмой, вода –
с землёй, а мир был слит с огнём,
и мы не думали о нём,
и жить в нём не предполагали.
На станциях
На станциях разных планет,
где нас уже годы, как нет,
найди отпечаток, вместивший
безмолвие эры пространной,
не будущей и не бывшей
на отмели этой песчаной.
Со временем странная штука:
в нём нет ни света, ни звука,
а только частые шпалы,
пахнущие креозотом.
Я всматриваюсь в кристаллы,
рассыпанные по сотам
у звёздного ювелира
на бархате ночи мира.
И вправду, зачем стараться?
Все наши карты биты.
Нас упомянут вкратце
в учебниках для элиты
новой, иной Эллады,
где скалы сини и голы,
где в небе рвутся снаряды
и причалы гудят, как пчёлы.
Наследие
Архив сознания перебирая,
я часто обнаруживаю в нём
знак или два, застрявшие у края,
горсть жёстких букв, оплавленных огнём;
оплывшей глинописи древний след,
девонское житьёи меловое –
смотри: его наследие живое,
насвистывая, вылезло на свет!
И каждый скрупул жизни, каждый гран
её течёт в избытке предложений,
в пределах проницаемых мембран:
как не увлечься нежностью движений
в такой скупой наивности, в такой
простой копировальной мастерской?
Но нету места в этом экипаже
для наших формул или наших фраз:
наследственность не видит нас и даже,
я думаю, не ощущает нас –
ни другом-гением, ни чуждым игом;
мы с ними счёт ведём по разным книгам,
учитывая разницу, гордясь
приобретённым, сверхприродным бытом,
пока ещё поддерживая связь
с глухонемым исходным алфавитом.
Наследство
Наследство вымерших времён
на серебре спокойно спит;
их проявил гидрохинон,
их закрепил гипосульфит.
Сочится тускло красный свет,
и Стикса тёмная вода
на дне пластмассовых кювет
вбирает лица и года.
Потомку будет невдомёк,
что мы записывали сны
на влажном серебре, поток
обычной световой волны
в стеклянной линзе преломив.
Он будет думать: это – миф.
(2008)
Начало
Н. С. Гумилёву
Над болотом лет настелем снова
Досок смысла временную гать.
Говорят, вначале было слово.
Что за слово – нам не угадать.
В языках каких оно звучало,
Книг каких украсило листы,
Утерявши признаки начала,
Обретя привычные черты?
Где-то, где в пустыне перестала
Разливаться древняя река,
Залежи мельчайшего кристалла
Пестуют истоки языка.
Поезд жизни нас проносит мимо
Той глухой, неведомой страны,
Где слова, горящие незримо,
В каменных слоях погребены.
(2001)
Наш театр
Над маленькою сценой
метался чудный звук,
мгновений смысл бесценный
сливался в общий круг,
и сказанное слово,
летящее во тьму,
ошеломляло снова
внимающих ему.
Ушло, но не забыто,
а значит, не ушло:
ещё окно открыто,
ещё дрожит стекло.
Как сказки или гены
сквозь мглу прошедших лет –
былые мизансцены,
которым сносу нет.
Всё те же, и всё та же
на сцене суета –
король, и шут, и даже
все реплики шута.
Прочней орлов имперских,
превыше всех знамён –
тот отзвук песен дерзких,
что нами сохранён.
Всё было, всё известно,
и всё опять сильней –
заставленное тесно
пространство лет и дней;
пустеет наша сцена,
всему приходит срок,
и только неизменно
блаженство этих строк.
Не уберу страницу,
не вырву, не сотру,
уже остановиться
не хочется перу,
пускай же смотрят боги
Олимпа, как рука
ещё выводит слоги,
понятные пока.
Носители
Я гляжу из-под очков
в сочетания значков.
Слабый след эпохи вьюжной,
бред опасный, толк ненужный,
трёп о том или о сём,
груды дел и сны дневные
на носители иные,
не спросясь, перенесём.
Кто откроет файлы эти –
правнуки или прадети,
или некий новый вид,
что земные наши звуки
через призрачные штуки,
сохранив, переменит?
Или тот потомок томный,
многоатомно-фантомный,
святоту свою храня,
игнорирует меня?
Где пою и где пирую
в брызгах древних языков,
мокрых водорослей сбрую
отведу с морских коньков.
В колеснице Амфитриты
совершая свой объезд,
знаю карту этих мест,
где сокровища укрыты,
где существ прозрачных друзы
в мелких лужицах лежат,
и нестрашные медузы
скользкой лавою дрожат,
а на камушках приливных,
исчезающих в воде,
виден след событий дивных,
не записанных нигде.
Ночная песня
Вот букварь передо мной:
в нём условленные знаки
тускло светятся во мраке,
как костры в ночи степной.
Там в котлах дымится вар
смрадных звуков речи вязкой,
жизнь мелькает в свете фар
позабытой страшной сказкой.
Но, по правилам игры,
вплоть до следующей мглы
там вращаются углы
ослепительного слова,
и асфальт пути земного
размягчится от жары,
сохранив мои следы.
Мы к назначенному сроку
соберёмся у воды,
пролегающей к востоку
на цветной блестящей вкладке,
там, в конце у букваря,
если будет всё в порядке
в первых числах января.
О разном
Когда я говорю сперва
о разном, а потом о сходном,
я вижу, как растут слова
на подоконнике холодном.
Они живут ещё без звука,
нелепо укоренены,
и тянутся, как перья лука,
как прерываемые сны.
А сквозь стекло прошедший свет,
затормозив над нашей бездной,
разделит мир на есть и нет
своей линейкою железной,
и смысл истекших поколений
войдёт в сознание моё,
как процарапанных делений
на ржавой плоскости её.
Оставляю
Валентине Синкевич
Оставляю на время те страны,
где с богами боролись титаны,
где разбросана суша руками
олимпийцев, по их законам,
чей язык неизвестен; где камни
устремляются вверх по склонам,
словно новых захватчиков орды.
Незаполненные кроссворды
оставляю на кресле в зале
ожидания, где строка
равномерно течёт, пока
номер рейса не объявляли.
Я лечу, как летал во сне,
подо мной плывут острова,
недоступное ранее мне
переделывается в слова.
Я отчитываюсь перед вами
свежесобранным языком
над последними островами
перед новым материком.
Остров Милос
Хорошо в Индо-Европе,
как сказал профессор Пропп;
оказавшись в хронотопе,
уважайте хронотоп.
Не достанет здесь никто нас,
здесь и слов, и мыслей копь;
не сразит жестокий Хронос,
не заманит Топос в топь.
Вижу ясно всё, что снилось
детской книжною зимой:
вот и входит остров Милос
в голос мой и в опыт мой.
Словно лодки в древнем Понте,
возникают острова,
в отдалённом горизонте
растворяются слова.
Где-то есть союз готовый
между вечностью и мной,
меж эгейской, бирюзовой,
безъязыкою волной.
Набегание её
я услышу, как своё,
сны прозрачные нанижу
на волнение её.
Остров Тассос
Сбросив ношу свою, налегке
полежать на эгейском песке,
там, где белого мрамора сколы
драгоценным сияют зерном,
где философы греческой школы
держат хрупкую мысль на весу.
От свинцовых веков немоты
отдышаться в сосновом лесу,
за поэтов ушедших, любимых,
отчитаться на этом листке
парой строчек едва различимых
на наречии нашем одном.
Нету средства из нашего мрака
снова в детство вернуться, однако
через мрамор пробились цветы
зверобоя, цикория, мака.
Исчерпав рудники золотые,
остров Тассос отходит ко сну.
Дремлет мир, и на числа простые
берега разбивают волну.
Отблеск
Полевой палеонтолог,
отыщи на склонах лет
оттиск, отзвук, отблеск, сколок,
список, снимок, слепок, след.
След и отблеск прежних дней,
сил земных и сил небесных,
след событий неизвестных
под поверхностью камней.
След растений и животных,
лет бездонных, лет бессчётных,
лабиринтов дней и мест
драгоценный палимпсест.
Откуда?
Откуда мы узнали имена
камней и птиц? Каким секретным взглядом
из разглядели? Кем утверждена
цена всего, что обитает рядом,
но чуждо нам, как облаку – пчела,
как гром – цветку, как времени - пространство?
Откуда мы узнали их дела?
Как мы определили их места,
и в новые вписали паспорта
вещей и слов первичное гражданство?
* * *
Переписчик и читатель
заключён в подземной тьме,
я – счастливый обладатель
строк, всплывающих в уме.
В этом мире, где живём,
только то, что в нашей власти
удержать в уме отчасти,
мы отчасти сознаём.
Бесконечно создаём
многозначащие тени,
исчезающие сны,
опускаясь в царство лени,
в хладный обморок волны.
Рядом с пропастью играя,
где внутри струится тьма,
мысль случайную стирая
твёрдым ластиком ума,
пылью солнечной крутясь,
проходя путём несложным,
мы удерживаем связь
между бывшим и возможным,
поддаваясь звуков строю,
склонность к истине храня,
независимой игрою
продлевая цельность дня.
Песня о планете двух лун
Памяти Александра Галича
Планета двух ущербных лун,
Где миром правят Лжец и Лгун.
Восходит первая луна –
На царство чествуют Лгуна.
Луна склоняется к дворцу
У моря, где лазурность вод –
Он власть передаёт Лжецу,
И умиляется народ.
Планета сносная вполне,
Мы не меняемся в лице,
Нам было хуже при Лгуне,
Нам станет лучше при Лжеце.
Вторая светится луна,
Коррупция побеждена,
Как мер драконовских творца,
Народ приветствует Лжеца.
Дворец воздвигнут за дворцом,
Враг поражён внутри и вне;
Ох, стало круто под Лжецом,
Была свобода при Лгуне.
Так каждый вождь наш лунолик,
Их лики с нами до конца,
И каждой мыши робкий клик
Найдёт Лгуна или Лжеца.
Луной сменяется луна,
Мы не очнёмся ото сна,
Во сне нам снится лунный свет,
О солнце разговоров нет.
По дороге в Лондон
Просплю и день, и час, и год,
проснусь, протру глаза и вижу:
уже идёт под гладью вод
туннель от Лондона к Парижу.
Взирают Близнецы и Дева,
как Скорпион язвит Стрельца,
и грустно смотрит королева
из Букингемского дворца.
Ей непонятен ход прогресса,
возникнувшего на земле,
пока она была принцесса
при предыдущем короле.
И лет прошло ещё не триста,
но в сонме юнош и мужчин
аристократ от террориста
уже почти неотличим.
И разум спит в своих оковах
под стук вагона и дождя,
безумье азбук языковых
в бинарный код переведя.
Лондон
10 июля 2009
По эту сторону
Наш век размечен чуждой метой
по краю стынущего льда;
снов океан питался Летой,
где память смыта навсегда.
А из какой прозрачной пыли
летят сигнальные лучи –
нам всё равно, и мы забыли,
и снова азбуку учи.
Тире и точка, плюс и минус,
и алфавитные значки,
как древний мир, пройдут и минут,
не расширяя нам зрачки.
Но за полярными кругами,
куда вода не дотекла,
хранится отраженье в раме
по эту сторону стекла.
Подстрочник
Что, если наш первоисточник
Нарочно создала природа,
Как ученический подстрочник
Несделанного перевода?
И сила чуждая, немая
Его спасла в пылу сражений,
И мы живём, не понимая
Его склонений и спряжений.
Мы ожидаем дня и часа
В бедламе шума и сигнала,
Но нет словарного запаса
На языке оригинала.
Пока есть время
Пока есть время – пой, пиши
бесстрашно и беспрекословно,
следи прилежно и готовно
за путешествием души.
Веков разрушенные соты
ещё хранят волшебный мёд;
ещё хрустален небосвод,
ещё известны наши ноты,
но за словесным частоколом
мир предстаёт случайным сколом
чужих, осадочных пород.
Суть времени обнажена;
достигнув нового предела,
мы на доске кусочком мела
выводим формул письмена.
И снова смысла ищем мы
под вечный ритм зимы и лета,
за спектром пушкинского света,
за гранью гоголевской тьмы.
Почётный легион
Неполнота воспоминаний
давно оплачена ценой
непрекращающихся знаний
из бесконечности дурной.
Мы собираем эту дань:
миров спектральные останки,
как будто орденские планки,
отягощают нашу ткань.
Здесь начался сезон изгнаний.
Вода уходит в перегной
приэкваториальной зоны,
нас пробирает вечный зной,
и тут же, где-то за стеной,
перемежаются эоны
и маршируют легионы
сквозь сон, увиденный не мной.
Предел
В природе есть предел, и это не секрет.
Но если допустить, что некий общий свет
из тех краёв, где стынет беспредельность,
сочится в этот мир, за миллионы лет
проникнув в суть вещей и им давая цельность –
тогда действительности рокот непрерывный
мы можем прочитать, как строки книги дивной,
как беглой истины почти истлевший след,
как белых облаков на белом небе ряд;
мы можем записать, понять, перевести
произошедшее на огненном пути,
в той путаной сети иных координат,
не полагающей пределов и границ,
где бездны и миры вскипают и горят,
где наш бессмертием ошеломлённый взгляд
хранит наследие сияющих страниц.
Примечания
Если память есть запись особыми знаками,
находимыми в атомах ли, в лексиконе ли,
к ней нужны примечания, чтобы мы поняли,
что стоит за Мальстрёмами и Зодиаками,
почему зарастают источники знания
тростниками уныния и умолчания,
для чего наступают эпохи изгнания,
где никто не умеет давать примечания.
Прометей
Для того ли смещаются плиты
и волною смывается Крит,
чтоб движения были забыты
в ржавой тьме, где надежда искрит?
Для того ли струились века,
золотые закинуты нити,
чтобы выла стальная река,
уничтожив теченье событий?
Для того ли я вил и ваял
ваши нервы и пил вашу воду,
в олимпийский сосуд запаял
неизвестную миру свободу?
Раздувались кузнечные мехи,
обустраивался окоём,
расставлялись опорные вехи
на незримом пространстве твоём.
Что же помнить о йоде и соли,
о подводном и замкнутом сне?
Я принёс осознание боли
с ясной вечностью наедине.
Но кому пригодились слова
и огонь светозарного ока?
Я, похоже, явился до срока
к тем, кто выполз на сушу едва.
Медлит Гелиоса колесница,
не успеет добраться в зенит –
значит, снова в безличии слиться
в жаркой мгле, где кузнечик звенит?
Блекнет свет предыдущего цикла,
и земля от свободы отвыкла –
не собрать, не узнать, не успеть,
разрушается вещная сеть.
Птицы, или Взгляд снизу
(Стихи для юных натуралистов)
1.
В духе традиций, настала пора
пересмотреть отношение к птицам,
к чуждому миру крыла и пера,
к плану полёта, наземным границам
вроде бы и подчиненному, но
только для окончивших лётное.
Теперь, к сожалению, ясно одно:
Птица – испорченное животное.
Тому, кто родился млекопитающим,
в крысином запахе и темноте,
естественна зависть к летающим,
особенно на большой высоте.
(Летучие мыши не в счёт,
попытка пропала даром:
получился летающий крот,
пускай и с радаром.)
2.
Нас волнует безудержность птичия,
мы во сне налеталися всласть,
но неравною силой обычая
не дана нам над воздухом власть.
Мы, мечтатели нижнего слоя,
суетясь в густоте травостоя,
конструируем нужные ниши
из земли, перегноя, подстилки –
а они поднимаются выше
и свои открывают закрылки,
и парят в ослепительном зное,
занимая всё небо земное.
3.
Будем, однако же, справедливы:
внешне они весьма красивы,
оперения их переливы
привлекательны; их голоса
изумительны; и полоса
зрительных и звуковых частот
этих сигналов у них широка.
Следопыты воздушного материка,
мореплаватели пустот,
они на рассвете галдят и поют,
когда звёзды ночное дежурство сдают.
4.
Не умолкает птичья болтовня;
мы – дети ночи, птицы – дети дня;
им достаются бесконечные просторы,
где совершаются широкие круги;
нам остаются замкнутые норы,
и в небесах – воздушные враги,
и если нам погибель суждена,
не сохранятся наши имена.
Историю напишет победитель,
где птица-ангел, птица-небожитель,
порвав с наследием животных и растений,
нарушила законы тяготений,
природу переделала свою
и на перо сменила чешую.
5.
Закон орнитологии –
пространство вышины:
пути четвероногие
для них запрещены.
Тем, кто плывёт невидно
в воздушных берегах,
наверное, обидно
скакать на двух ногах.
Но им приходится слетать
в долины и леса:
небось, не могут пропитать
пустые небеса.
6.
Тем, кто оставил скорлупу яйца
и перебрался жить за облака,
понятен смысл начала и конца,
но неизвестна сладость молока.
Сосуществуют в мире две культуры,
несовместимые ни в частностях, ни в целом:
одна выписывает в облаках фигуры –
другая занята полезным делом;
одна мигрирует из Арктики в Китай,
и снова в Арктику: питайся да летай –
другая роется всю жизнь в одном
клочке земли, ничтожном, но родном.
Вот вам Урана с Геею разрыв:
их жизни ангельской – и нашей жизни кротской;
и этот факт поймут, его изобразив,
сперва Аристофан, а после – Заболоцкий.
И дальний отпрыск нашего генома,
на тысячах неведомых страниц
сочтя и описав и нас, и птиц,
опубликует два отдельных тома
о том, как мы произошли и отцвели –
хозяин будущий и неба, и земли.
22–24 января 2009
Хантингтон
Птолемей
Кличут боги человека,
человек же глух, как встарь;
догорай, библиотека;
разносите, ветры, гарь;
гасни, Фаросский фонарь.
Так в недлительные сроки
наша прыть к нулю свела
Аристотелевы строки,
Александровы дела.
Позабыли все науки,
но не вложат меч в ножны
Аристотелевы внуки,
Александровы сыны –
наши внуки и сыны.
Хмурые хлопочут боги,
подбивая нам итоги,
отбивая кое-как
надвигающийся мрак.
6 марта 2009
Хантингтон
Пустыня
Где теперь твои святыни,
под Полтавой битый швед?
Нам не сорок лет в пустыне –
сорок раз по сорок лет.
Ты зачем пришёл когда-то
в царство чёрного квадрата,
где болеют головой
после смены трудовой?
Голова у нас одна,
в ней субстанция видна
из особого раствора
для большого разговора.
Здесь духовная среда,
а ты зачем пришёл сюда?
Прорастай, мой труд полезный;
сей, Язон, рукой железной
семя будущих времён:
паттерн сей укоренён.
Подгребай и ты, болезный,
враг сердечный, лях и швед,
таргет будущих побед.
Я кую свой меч чудесный,
нам вдвоём в каморке тесной
мирозданья жизни нет.
24 ноября 2015
Пусть
Пусть разобраны штативы
и развинчены узлы –
эти чудные мотивы,
эти иволги и ивы
перейдут в мои архивы,
в кабинетные столы.
Всё, что есть на белом свете,
и чего на свете нет,
будет в этом кабинете
сохраняться много лет.
И усилием случайным
подойдёт вплотную к тайнам
наша детская игра.
В рамках нового проекта
пересматривает некто
наше завтра и вчера.
19-21 февраля 2014
* * *
Пыль книг и времени ценя,
зарыться в тьму, не видеть дня,
где люди молятся могилам,
и в телевизоре унылом
наперсточник трясет мошной;
играйте в это не со мной,
играйте в это без меня.
13 февраля 2009
Хантингтон
Разлом
Есть разница между словами:
одни зелены и просты,
другие встают островами,
а третьи наводят мосты.
И среди мерцающей влаги
в прозрачном ночном далеке
сдвигаются архипелаги
и золото ищут в песке.
И снова, дремоту наруша,
взывают к тебе о былом
эгейская древняя суша
и юный балканский разлом.
Но, помня бесславия годы
и все языки, что ушли,
слова, не желая свободы,
ложатся в структуру земли.
И времени чуждые силы
вплетают в косицы свои
и белого мрамора жилы,
и мягкого сланца слои.
Размышление
Г. Г. Г.
У пространства-времени
нету рода-племени.
Простирается оно,
пустоты своей полно,
сквозь поля просторные,
через дыры чёрные.
Километры или дни
нигде не кончаются,
а с расстояния они
и не различаются.
В этой тьме пустой и праздной,
исчисляя вечность в днях,
мы пылинкою прекрасной
прилепились на камнях,
и под разными углами
мы разглядываем пламя
холодеющих высот,
то ли нас пространство губит,
то ли время нас не любит,
то ли разум чушь несёт.
И ни Лейбниц, ни Спиноза,
ни поэзия, ни проза,
не ответят на вопрос –
как довольствоваться миром,
где живут вином и сыром,
где растят лозу и коз?
Нам бродить по этим чащам,
нам прикладываться к чашам
в непрошедшем настоящем,
в продолжающемся нашем,
где игрушкою отменной
для взыскующего вида
дан познания Вселенной
дар, не требующий гида.
Рапана
Памяти Константина Кузьминского
Время с пространством – одно,
словам их понять не дано;
может быть, оговорки,
или скороговорки?
звук, заполняющий створки
раковин, мёртвых давно.
Раковина-рапана,
сокровище океана
на столике у дивана,
словно открытая рана,
отзвук ещё живой
распластывающихся явлений,
раскаивающихся поколений,
бег ледяных оленей
по мраморной мостовой;
стрела, пронёсшаяся над головой.
Сколько их, осевших на дно,
ставших каменными ступенями
атлантической высоты,
осветивших будущие мосты
через пропасти Чёрного Времени.
Эту воду пробовали сперва
острова и полуострова,
и прозрачные эльфы, заполнявшие шельфы,
и другие, невидимые, существа.
И слова мои примут форму тогдашнего склада,
рассыпаясь водою из гейзера или фонтана
на светилах Европы или Энцелада:
это – шум, который слышит моя рапана.
Река
Всё, что ни есть на белом свете –
огонь на солнце, лёд в комете,
пещер невидимая тьма –
всё к нашей жизни равнодушно,
в то время как она сама
собой, меандрами реки
извилистой, течёт послушно,
и каждый день её изучен
у этих гипсовых излучин,
где все события легки.
И целый мир собрался здесь
в единый фокус, в эту взвесь
ещё не меркнущего сна,
топографического пира,
и версия иного мира
уже не так удалена.
Сквозь эту ткань иной пловец,
и солнц, и истины ловец,
возьмёт остатки наших снов
в свою ладью, как горсть жемчужин,
там каждый вдох и выдох нов,
и каждый всплеск и отблеск нужен;
там счёт идёт на доли шага,
там крепче ньютонова тяга,
а берега моей реки
непредставимо далеки.
(2010)
Сад
Не овладев бессмертия секретом,
но алфавиты новые уча,
я посетил Эдемский арборетум
в окрестностях Кастальского ключа.
Под пышущею печью небосвода,
под светлых струй тысячелетний шум,
я узнаю слепого садовода
недюжинную страсть и дерзкий ум.
И где-то между Тигром и Евфратом
смоковница любуется закатом
в пробоинах разрушенной стены,
и наблюдают вечные оливы,
как входит странник в сумрачные Фивы,
движения его предрешены –
но существам божественного ранга
не увидать в магический кристалл
тех дней, когда кузен орангутанга
пришёл завоевать Неандертал.
Пусть истины редчайший драгметалл
не вымыть из песка в долине Ганга,
не обнаружить межпланетным зондом –
я тексты сокровенные читал,
когда впервые много лет назад
я посетил благословенный сад
и пользовался чудным книгофондом.
3 марта 2009
Хантингтон
Свет
Расположение планет
и строки старого романа
напоминают неустанно
о том, чего на свете нет.
Да есть ли сам он, этот свет?
Ужель и вправду наблюдатель
был ненамеренный создатель
и хрупких сфер, и страшных сил,
и сам об этом позабыл –
и механизм его, и цель?
В потоке сумрачных недель
скитаясь в хаосе отлива,
всю жизнь пытаешься найти
остывший путь Большого Взрыва,
а также прочие пути.
Так поднимись оттуда в горы,
где климат резче и странней,
где издавна звучали хоры
существ, не взятых из камней
природы, но согласных с ней.
Там иглы древние колышут
те, чей узор ещё опишут
историки грядущих лет;
там наших игр пока что нет
с их инфантильностью слепою.
Пройди неровною тропою:
там, у базальтовой стены
следы реальности видны.
Они не вымышлены мною –
я часто вижу эти сны.
След
Слепи себе из пластилина
очередного властелина
в зелёной тоге, без лица.
Дай в лапки липкие монету,
как потемневшую планету,
где жить придётся до конца
под властью этого слепца.
Потом сомнни его в комок,
чтоб больше зла творить не мог,
чтоб дать урок другим тиранам;
забрось в коробку под диваном.
Потом прошелестят века,
и археологи в пустыне
найдут монету в середине
окаменевшего комка.
И с осторожностью великой
в музейной зале под стеклом
уложат след эпохи дикой,
игравшей в поддавки со злом.
Слои
Погибнув дома и в боях,
прослушав текст постановлений,
найди прибежище в слоях
среди корней и ответвлений,
среди немых, разъятых слов,
на микрофильм отснятых снов,
в той темноте, где каждый слой
перемежается золой.
Понять прошедшее не в силах,
читаем повесть лет унылых,
зашедших солнц, ущербных лун,
где выплавляется чугун,
где вал морской и гром небесный
давно забыты в жизни тесной,
где нам достанется украдкой
пометить истину свою
случайно выпавшей закладкой
в букинистическом раю.
Смысл
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке...
Арс. Тарковский
Мы часто празднуем победу
от горьких истин вдалеке,
когда Оккам идёт по следу
с ненужной бритвою в руке.
И на монашескую бритву
мы то науку, то молитву
готовы выставить в ответ,
а смысла и поныне нет,
как не было во время оно,
нет ни снаружи, ни внутри,
смотри об этом у Платона,
у Аристотеля смотри.
Сонет
Природы бешеный замах,
её рубидий и дейтерий
дают завышенный критерий
в неоперившихся умах.
Настала эра суеверий:
не стало в наших закромах
ни романсеро, ни мистерий,
ни Гекторов, ни Андромах.
А я пишу свои сонеты;
их строчек ломкая слюда
и кажущиеся сюжеты
дают спокойствие, когда
все остальные песни спеты,
а мир стремится в никуда.
Средняя Азия
Мы – старинный корень мысли,
я – старинный корень яви.
Клеопатра ли, Таис ли
нанесли удар державе?
Врать не станет стая вранья,
плети падали на плечи.
Ум – свидетель умиранья
древних рек и прежней речи.
Соль и солнце ослепили
мир эмиров. Гомон птичий.
Тонок слой вечерней пыли.
Зелен чай. Силён обычай.
Стансы к Януарию
У Лукоморья, где виварий,
Не раз мы пили, Януарий,
И пели мы из разных арий,
Орали мы что было сил:
Там чахнет царь Кощей над златом,
Там брат идёт на битву с братом,
Там служит людям мирный атом,
И я там был, мёд-пиво пил.
Ах, Януарий, наши клетки
Откроют те, кого мы предки,
Обломят, как сухие ветки,
Наш стыд и страх, инстинкт и грех;
Что им, родившимся в ретортах,
С ракетками на белых кортах,
С прозрачной жидкостью в аортах?
Наш мир для них – пустой орех.
И, звёздной россыпью влекомы,
Они уйдут в иные домы,
Такие выстроят хоромы,
Что ни пером, ни топором.
Кому они предъявят сметы?
Какие выставят Заветы,
Когда к брегам вселенской Леты
Харон причалит свой паром?
Да, Януарий, наши годы,
Статьи, и оперы, и оды,
Наш скверный век, дитя свободы,
Смущенье дум, смятенье встреч –
Пройдут дорогой к изобилью,
Сверкнут, смешавшись с звёздной пылью,
Так и не сделав сказку былью,
Да и не сбросив бремя с плеч.
(1998)
Станционный смотритель
Я – старой станции смотритель.
Куда ведут мои пути?
Быть может, некий небожитель
ко мне отважится сойти.
В холщовой робе, босиком,
держа хрустальный многогранник,
зайдёт ко мне печальный странник,
пожалуется на бесплотность.
Я разверну свою отчётность,
потом достану подстаканник
и сбегаю за кипятком.
И так потянется неделя:
мы сядем пить особый чай
да вглядываться в глубь туннеля,
закрытого железной сеткой:
там, говорят, дорога в рай,
а может быть, в посёлок дачный,
когда-то шла отдельной веткой,
звучала радостным гудком.
Но наступает поздний час,
и засыпает гость прозрачный,
сморённый нашим кипятком
вприкуску с горсткой рафинада,
и зрит во сне преддверья ада,
где всё почти что как у нас,
но нам об этом знать не надо.
Хантингтон
7 июля 2009
Статья
1.
Статья из старого журнала
нам говорит, что с древних дней
душа миров существовала,
что мы давно привыкли к ней;
что от созвездий до песчинок
её остывшие следы
сопровождают поединок
наследственности и среды;
и что в эпохи катастроф
она виднее с каждым разом,
когда, покинув прежний кров,
как лава, каменеет разум.
2.
Бумага ломка и желта,
статья журнальная наивна,
но ткань веков чудна и дивна,
и отступает пустота.
И в наши дни, когда все тайны
уже давно разрешены,
и потрясения случайны,
и цели определены,
вам, предки, низкий наш поклон
за то, что в мизерные сроки
вместили океан времён
немыслимые ваши строки.
И смысл, и радость ваших дней
теперь до нас доходят прямо,
через дыхание камней
давно разобранного храма.
И вечно с нами говорит
душа, которая вобрала
и белый мрамор древних плит,
и строки старого журнала.
Страна
В незапамятные времена
за пределами нашего сада
неизученная страна
избегала прямого взгляда,
не давала себя завлечь
в сети радужного режима,
и поэтому наша речь
так сложна и непостижима.
Из раствора и из осадка
собирается в плоть строки
подстилающего порядка
еле видимое кроки,
абрис высвеченных столетий,
разбегающихся рубежей,
звон глаголов и междометий,
ткань склонений и падежей.
Хантингтон
23-30 сентября 2009
Страна со странностями
1
Страна со странностями, где слова
ведут себя совсем неадекватно,
где из «туда» не следует «обратно»,
а «заново» не требует «сперва».
Наверно, это сон: ведь в ткани сна
теряются логические связки;
зачем же эта ткань размещена
в раскрашенном футляре детской сказки?
А может, весь набор страстей и фобий
собрать в один учебный кабинет,
с периодической системой лет,
дней и эпох, графических пособий,
разломанных моделей?.. Школьный класс:
рыданья над разбитыми очками,
разрозненные знания клочками,
рассыпанный металл наборных касс.
2
В свой звук и отзвук слепо погружён,
поэт – не Зевс, поэт – не Аполлон,
ему не служит истина основой;
ему не стать священною коровой,
укореняются его ростки
сквозь наши сны и наши языки,
как буйный хвощ вдоль горного ручья,
но в праздных строчках правда есть своя.
Поэт – Протей, поэт – хамелеон,
любую форму принимает он
в материи и гибкой и суровой;
расползшиеся ткани бытия
готов он залатать строкою новой,
узором драгоценного шитья.
Извивам и излучинам строки
он следует, линейке вопреки.
3
А в общем-то наш мир не так уж плох,
рассматривая эту жизнь на фоне
недавно завершившихся эпох,
когда ещё мы не были на троне:
там предок наш, совсем ещё сырой,
мог сгинуть докембрийскою порой
и не дожить до наших бурных дней.
Там, говорят, и климат был душней.
Строка
Концентрическими кругами
уходя за свои края,
плотно сложено оригами
бытия и небытия.
Век исчерпывая мгновенный,
мы ещё поживёмпока
в расширяющейся Вселенной,
где по краюбежит строка.
Строки
О строках нерождённых и неспетых
Молись, поэт, забыв свой стыд и страх;
Они сверкнут в забвения волнах,
Дождём растают в бурных Летах,
Как молния, на миг откроют лик,
Раскатятся в груди подобно грому,
И ключевой водою на язык
Придут тебе – или другому
Тайна
Тайну вечного секрета
Наконец узнали мы:
Там, где есть источник света,
Должен быть источник тьмы.
Скорлупой орехов грецких
Стены мира стали вмиг
За пределом наших детских,
На страницах взрослых книг.
Кто и тьмой, и светом правит?
Кто орехи дверью давит?
Без картинок наши дни:
Разговоры в них одни.
Наши знания случайны:
Как поймёшь, где тьма, где свет?
Может, в мире нету тайны?
Может, в этом весь секрет?
(2001)
Театр
Когда, очерчен кругом света,
актёр, по прихоти поэта,
сжигает слов и сердца дань
на дымном жертвеннике храма –
его комедия и драма
сплетают потайную ткань,
и от столетия к столетью
прокинув золотую нить,
стремятся душу уловить
своей невидимою сетью.
И между сценою и залом
течёт живая пустота,
как воздух горного хребта
над долгожданным перевалом.
Теория
1.
Рассматривая звёздный свет,
Астеев с Ганским, в двадцать пятом,
увидели, что каждый атом,
оставив за собою след,
скользит по жёлобу времён;
а чтоб чему-нибудь случиться,
должна существовать частица
пространства-времени – хронон.
Сквозь чёрных дыр иллюзионы
в наш мир невидимо-слепой
текут бессмертные хрононы
неисчислимою толпой.
И возникает в мире сонном,
переливаясь и двоясь,
в союзе атома с хрононом
причинно-следственная связь.
Весь ход событий и мгновений,
поля, и солнца, и лучи –
суть плод подобных столкновений
и к царству истины ключи.
И со времён Большого Взрыва,
вчера, сегодня и всегда
листы и описи архива
хранит межзвёздная среда.
2.
И вот уже в пятидесятых,
на даче Ганского, зимой,
был найден смысл частиц крылатых
и путь материи самой.
Внутри очерченного круга
он отыскал заветный клад,
и в честь расстрелянного друга
назвал свой краткий постулат.
Они дошли до самой кромки,
пройдя и вечность, и ГУЛАГ;
их папок ветхие тесёмки
едва удержат груз бумаг.
Но этот текст не для поэм
и не для нашего рассказа:
он крепче спирта и алмаза,
страшнее водородных схем.
В нём есть расчёты дня и часа,
когда критическая масса,
вздохнув, потянет за собой
аламогордовский пробой,
и будет квантовою пеной
до основанья сметена
освобождённою Вселенной
миров Берлинская Стена!
А мы – над новыми волнами
взойдём холодными огнями,
и жизнь, и память потеряв…
А может, Ганский был неправ?
(2006)
Теперь
Лёгкость жизни давно утрачена,
вещи знают свои места;
по периметру обозначена
убывающая пустота.
Мы живём в кайнозойской эре,
в наступлении ледника,
но в разреженной атмосфере
не сожжёте еретика.
Вам придётся смириться с нами,
ибо кончились нефть и газ,
и навеки погасло пламя,
на котором сжигали нас.
Под портретом чужого предка,
в крестословице новых дней
не заполнена наша клетка –
пустота обитает в ней.
И уходят во тьму предметы –
искры, тающие на лету
у прибоя мраморной Леты,
и сияющий меч кометы,
улетающей в пустоту.
У берегов
Я проехал долиной реки,
где родился полвека тому;
по периметру там пески,
убегающие во тьму,
или рифтовые долины,
где водился индрикотерий,
да разрозненные руины,
от которых курится дым.
Нас учили, что для империй
доступ к морю необходим.
Но пока они суть постигнут,
мир по-своему переделав,
ты в пустыне не будь застигнут
расширением их пределов.
И они зачерпнут шеломом
и омоют свои штыки
у развалин, что были домом
возле устья моей реки,
где устраивались пикники,
где играли спектакль потешный,
и где песня моя звучала,
где корабль отошёл поспешный
от обугленного причала.
Новосибирск–Лондон
7–8 августа 2009
Февраль
Февраль тринадцатого года!
А я, смотри, преподаю
все ту же истину мою –
от Менделя до Гесиода.
Уже отрёкся Римский Папа,
а мы все пишем свой отчёт,
и дожидаемся этапа,
где Тибр обратно потечёт.
Пусть проволокою колючей
нам замотали мозг и взгляд;
все так! но мы на всякий случай
оглядываемся назад.
И будет дух в тенетах биться,
последний лист в печи спаля,
когда закроется страница
очередного февраля.
Частица
Уходящие часы
жизни яростной и хрупкой
не поставишь на весы,
не измеришь ртутной трубкой.
Не придумана шкала
из ай-кью или пэ-аша,
чтобы боль и радость наша
измеряема была.
Так частицы путь желанный,
отодвинув тьму и свет,
в тесной камере туманной
пролагает белый след.
Запись этого пути
мне хотелось бы найти,
где понятно, что мгновенный,
зыбкий мир, навстречу мчась –
нашей жизни сокровенной
только видимая часть.
Эволюция растений
Наш век уйдёт в подвалы сна,
Придёт пора растений новых –
Голосемянных и цветковых,
Что хитро прячут семена.
А мы под времени плащом
Иные партии разучим –
Кто в пойме вырастет хвощом,
Кто станет каменем горючим.
Так нам дано на краткий миг
Согреть грядущего больного,
Пока он в тайны не проник
Существования иного.
Сочится времени струя,
Как строчки довоенной прозы,
Плывут чернила бытия
Среди волокон целлюлозы.
Эйфелева башня
Скрепляя землю с небосводом
прочней, чем древние столпы,
она сидит перед народом
для развлечения толпы,
бесцеремонно и бесстрастно.
Игрушкой, выпавшей некстати
из рук небесного дитяти,
в пространство крепко вплетена,
хранит иллюзию она
о том, что время нам подвластно.
Эпоха
У каждой эпохи
свои клопы да блохи,
свои погремушки,
комарики-мушки,
маски-личины,
следствия-причины,
запятые-точки,
ягодки-цветочки,
пестики-тычинки,
куколки-личинки,
лавочки-печки,
ручеёчки-речки,
стаканы-рюмашки,
ремешки да пряжки.
Я взираю на закат,
дальше будет просто:
наливай по пятьдесят,
а потом и по сто.
А кому не повезло,
пусть им будет стыдно,
в закоптелое стекло
ничего не видно.
А в разбитое окно
тяжким духом понесло,
спать пора, спать давно,
утро будет мудрено.
Этюд в багровых тонах
Так думал Хлебников в бреду:
не может жить ни нерв, ни мускул
без красных кровяных корпускул,
несущих воздух и еду.
В уэллсовские времена,
как красный цвет планеты Марса,
пронижет мир лучами Маркса
низкочастотная волна.
Рассвету адскому подобно,
окрашивалась пустота.
И Волга, и Ока, и Кама
падут под лезвием Оккама.
Малевич рисовал подробно
квадрата чёрные врата.
* * *
Я всю жизнь собираю намёки,
за слоями снимая слои,
на границе сознания строки
различая, как мысли свои.
Над изменчивой гладью воды,
над изрезанным профилем горным
я считаю событий следы
в этом мире, слепом и упорном.
Но, скитаясь от Корфу до Крита,
прячась в тень освещённого дня,
я узнал, что действительность скрыта,
что она избегает меня.
Поворотом, случайным повтором,
отголоском забытого сна
мы касаемся мира, в котором
обитает и тонет она.
Наверно, не только же гены
издревле содержат в себе
обычаи и перемены,
возможные в нашей судьбе.
Мы, может быть, тем и хранимы,
что текст или даже строка
случаются переводимы
с исчезнувшего языка.
На острове, на острие
той башни из белого света
прочтёте посланье сие,
не требующее ответа,
как будто бы нам объяснили
насущную мудрость небес,
и, скачущий в облаке пыли,
дельфийский посланник исчез.